Обида. Русский аффект.
Как устроен русский национальный характер
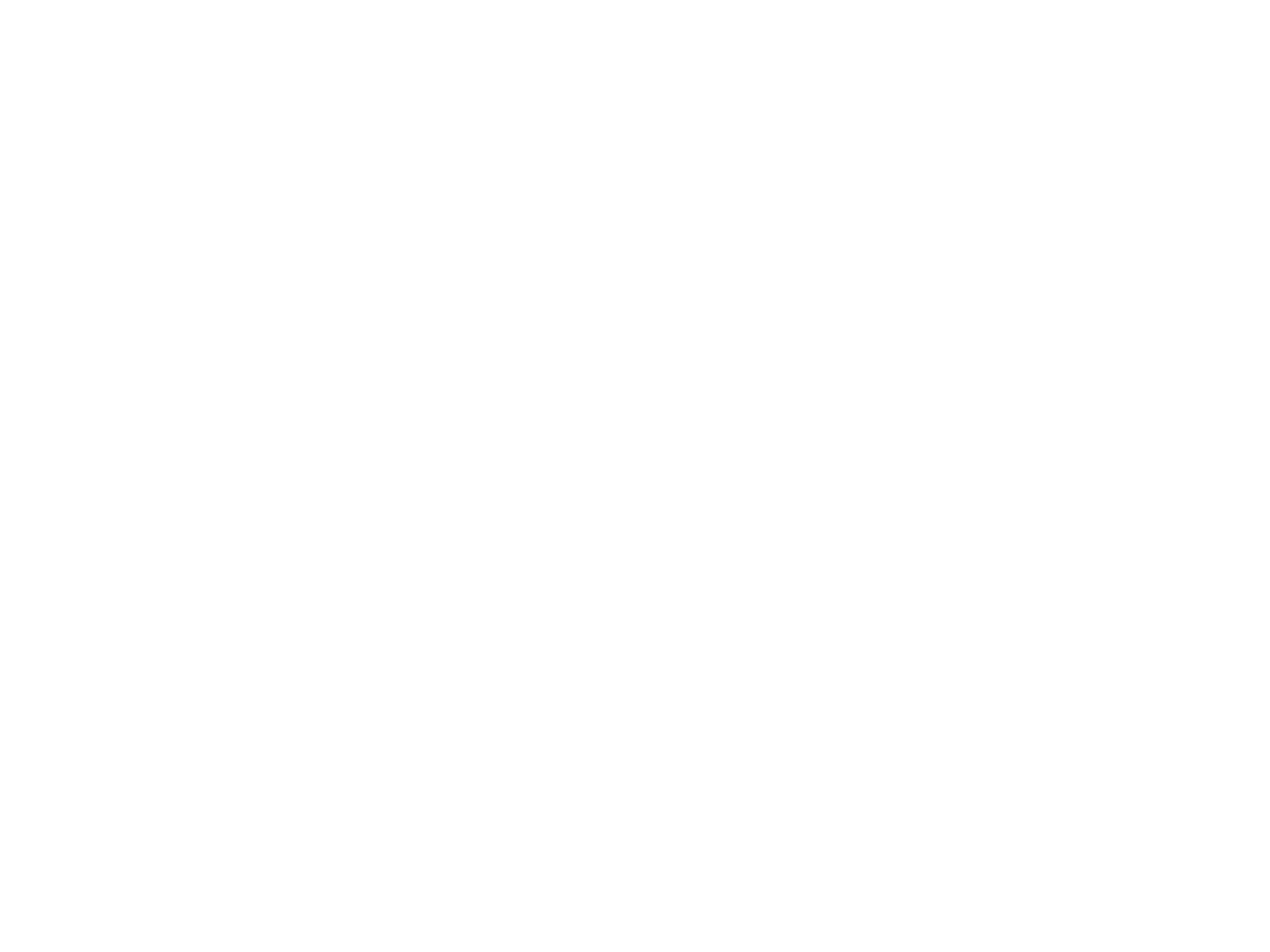
Обида. Русский аффект.
Как устроен русский национальный характер
Русский национальный характер — это тема, на которую написано максимальное количество гомерического размера глупостей. Один американский исследователь пытался вывести мнимую приверженность русских к тоталитаризму из практики тугого пеленания младенцев, распространённой в русских деревнях.
Отечественная исследовательница Ксения Касьянова настаивала на том, что русские имеют эпилептоидную акцентуацию национального характера: «Замедленность и способность задерживать реакцию; стремление работать в своём ритме и по своему плану; некоторая «вязкость» мышления и действия ("русский мужик задним умом крепок"); трудная переключаемость с одного вида деятельности на другой; взрывоопасность…»
Почему автор приписала русским именно эти черты? Загадка. Александру Сергеевичу Пушкину русский крестьянин виделся явно по-другому. Никакой вязкости и заторможенности, а наоборот — остроумие и быстрота реакции:
«Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлёности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. ... Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день…»
Иной раз под русский характер пытались подвести географическую и климатическую основу. Историк Василий Осипович Ключевский, отличавшийся остроумием и любовью к острым, язвительным, порой созданным ради красного словца формулировкам, дал такую его картину:
Отечественная исследовательница Ксения Касьянова настаивала на том, что русские имеют эпилептоидную акцентуацию национального характера: «Замедленность и способность задерживать реакцию; стремление работать в своём ритме и по своему плану; некоторая «вязкость» мышления и действия ("русский мужик задним умом крепок"); трудная переключаемость с одного вида деятельности на другой; взрывоопасность…»
Почему автор приписала русским именно эти черты? Загадка. Александру Сергеевичу Пушкину русский крестьянин виделся явно по-другому. Никакой вязкости и заторможенности, а наоборот — остроумие и быстрота реакции:
«Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлёности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. ... Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день…»
Иной раз под русский характер пытались подвести географическую и климатическую основу. Историк Василий Осипович Ключевский, отличавшийся остроумием и любовью к острым, язвительным, порой созданным ради красного словца формулировкам, дал такую его картину:
«Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеётся над самыми осторожными расчётами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчётливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадёжное и нерасчётливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось… Великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдём такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии».
В конце ХХ века советский историк Л. В. Милов попытался основать на этой картине характеристику всего русского общества и государственности. Вспомнив формулу другого крупного историка XIX века С. М. Соловьёва о том, что западноевропейцам природа была матерью, а русским — мачехой, Милов утверждал: мол, в России слишком холодно, урожайность низкая, причём никакими способами поднять её невозможно, природа своенравна, поэтому русский крестьянин — это обречённый на вечную неудачу фаталист, а российское государство отличается излишней жестокостью, так как, чтобы создать в России что-то путное, нужно отбирать у народа часть «основного продукта» и морить его голодом. А потому нужны крепостное право и колхозы, а то и ГУЛАГ.
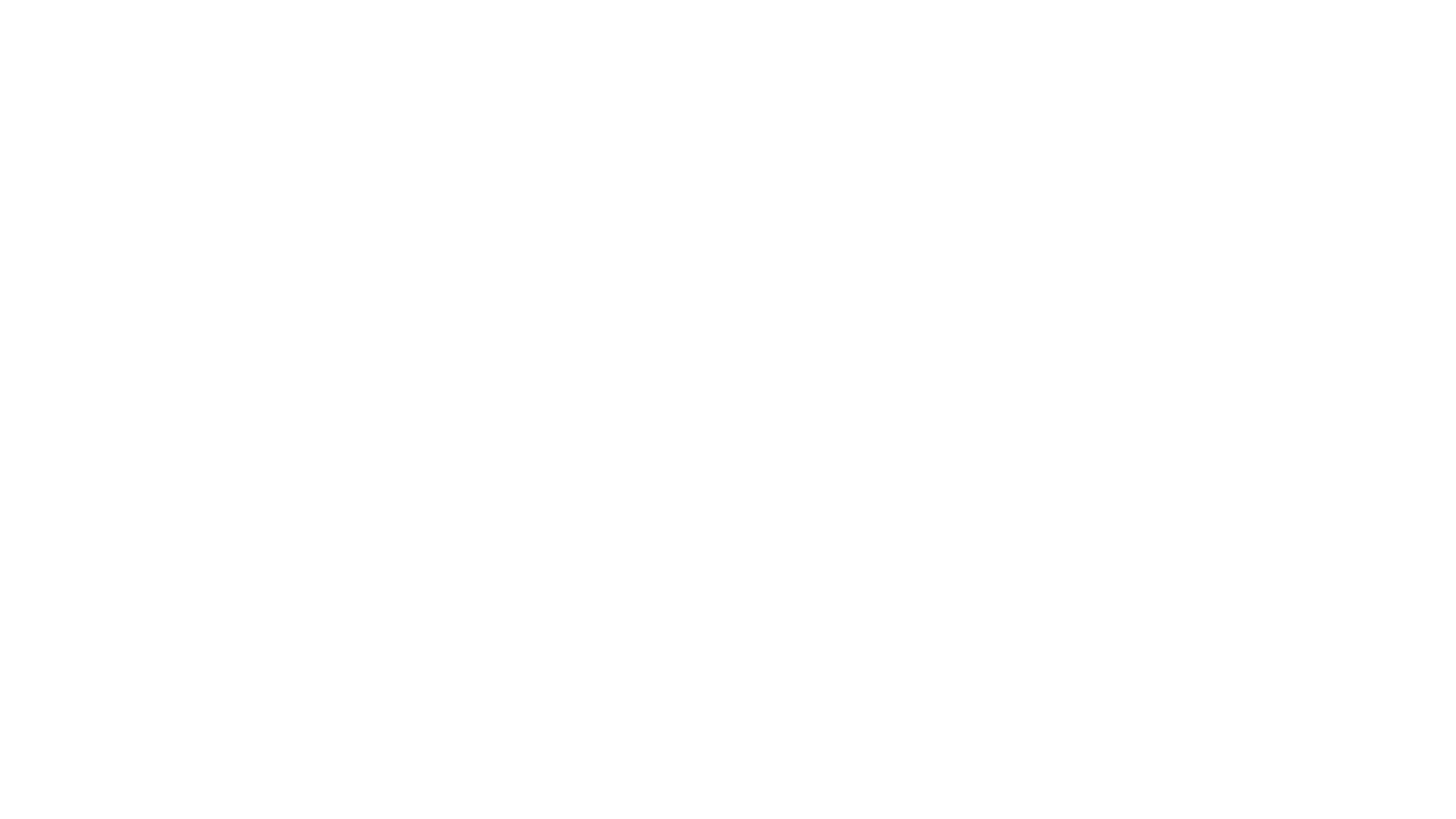
Эта теория Милова превратилась в едва ли не официальное объяснение русской истории у множества авторов, заменив былой марксизм-ленинизм. Есть один нюанс — она фактически неверна. Конкретные исследования показывают, что русская природа отнюдь не была озлобленной мачехой, что урожайность, обеспеченность сеном, другие важнейшие показатели были в России сопоставимы с европейскими и даже лучше, чем во многих странах этого региона как минимум до начала на Западе аграрной революции в XIX веке.
А главное — неверно созданное и Ключевским, и Миловым общее представление о связи климата и русского характера. О якобы авральном методе работы, необходимости полагаться на авось и заложнической зависимости от погоды. Напротив, в тех географических зонах, где природа была к русскому крестьянину не особо щедра, он вкалывал в три погибели и летом и зимой, демонстрируя способность именно к тому равномерному упорному труду, в которой ему отказывал Ключевский. И только переместившись на земли, где природа была щедрее, русский мужик иногда позволял себе немного отдохнуть.
«Авральный метод работы», якобы присущий русскому характеру, оказывается мифом. А вот реальностью становится постоянный лихорадочный поиск хорошей землицы, на которой можно будет наконец-то пожить немного для себя. Беловодья. Страны Муравии. В поисках этой сказочной земли русские крестьяне и казаки растеклись по всему огромному пространству Северной Евразии, не побоявшись ни сибирских холодов, ни жара схваток с кочевниками Дикого поля — Новороссии.
Какая-то необычайная тревожная подвижность и в самом деле является важнейшей чертой русского характера и образа жизни. «Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи… уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдёшь, тем лучше», — говорит Чебутыкин в чеховских «Трёх сёстрах». И это кредо, иногда лишь оборачивающееся тоской по вечно недостижимому дому, действительно можно обнаружить у многих героев и Чехова, и других русских классиков: «Долго ль мне гулять на свете / То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешком?» — так начинаются пушкинские «Дорожные жалобы».
А главное — неверно созданное и Ключевским, и Миловым общее представление о связи климата и русского характера. О якобы авральном методе работы, необходимости полагаться на авось и заложнической зависимости от погоды. Напротив, в тех географических зонах, где природа была к русскому крестьянину не особо щедра, он вкалывал в три погибели и летом и зимой, демонстрируя способность именно к тому равномерному упорному труду, в которой ему отказывал Ключевский. И только переместившись на земли, где природа была щедрее, русский мужик иногда позволял себе немного отдохнуть.
«Авральный метод работы», якобы присущий русскому характеру, оказывается мифом. А вот реальностью становится постоянный лихорадочный поиск хорошей землицы, на которой можно будет наконец-то пожить немного для себя. Беловодья. Страны Муравии. В поисках этой сказочной земли русские крестьяне и казаки растеклись по всему огромному пространству Северной Евразии, не побоявшись ни сибирских холодов, ни жара схваток с кочевниками Дикого поля — Новороссии.
Какая-то необычайная тревожная подвижность и в самом деле является важнейшей чертой русского характера и образа жизни. «Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи… уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдёшь, тем лучше», — говорит Чебутыкин в чеховских «Трёх сёстрах». И это кредо, иногда лишь оборачивающееся тоской по вечно недостижимому дому, действительно можно обнаружить у многих героев и Чехова, и других русских классиков: «Долго ль мне гулять на свете / То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешком?» — так начинаются пушкинские «Дорожные жалобы».
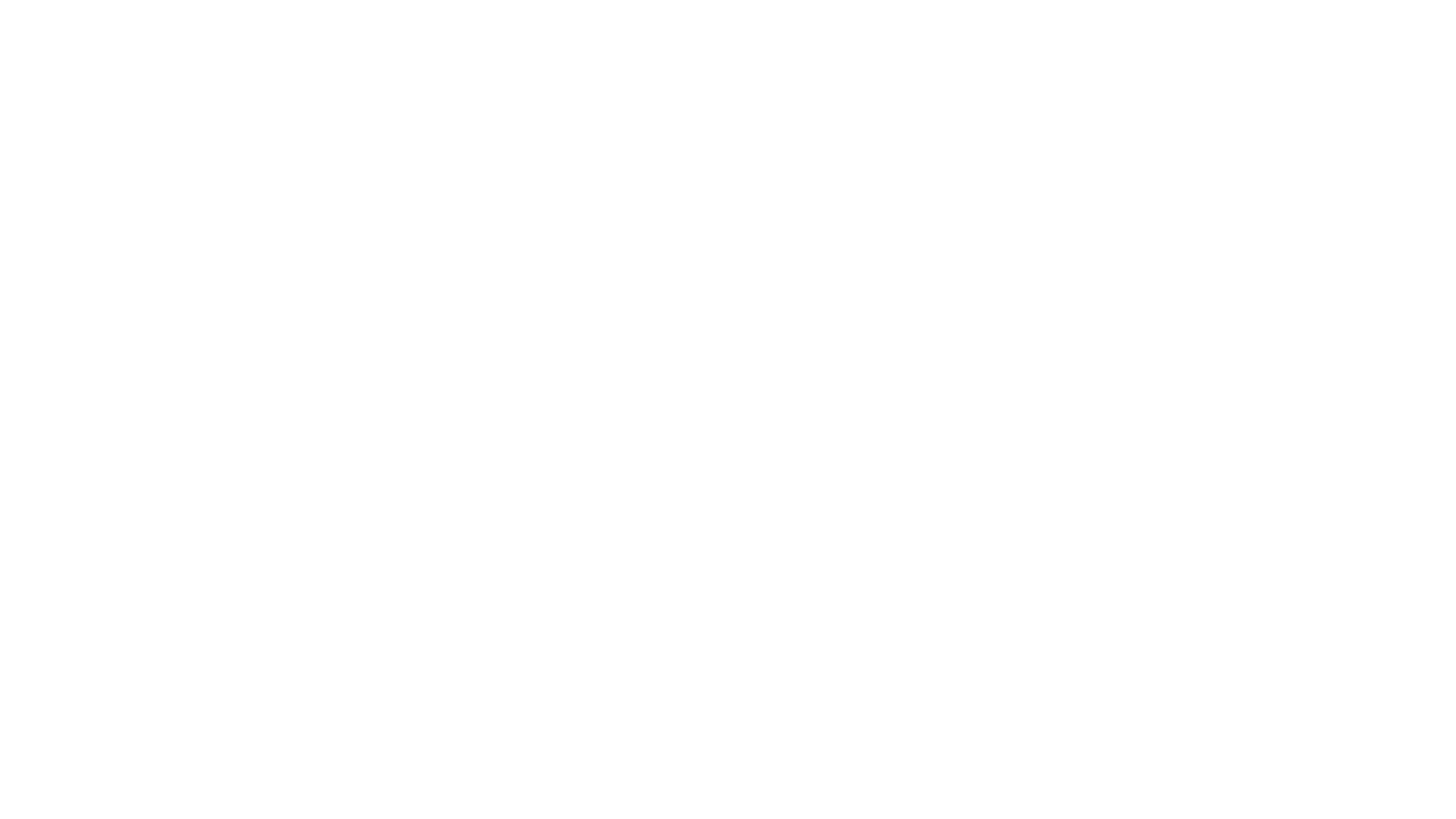
«Русские — движущийся этнос с самосознанием оседлого, — отмечает этнограф Татьяна Щепанская. — С одной стороны, оседлость — один из базовых элементов его самосознания, формировавшегося в условиях многовекового противостояния кочевой степи. В результате оседлость приобрела роль важнейшего… признака. С другой стороны, процесс формирования русского этноса шёл на фоне постоянных передвижений. Разные формы подвижности: земледельческая колонизация, сезонная промысловая миграция, вооружённые набеги и разбойничьи экспедиции, отхожие промыслы, обозная торговля, нищенство, странничество по святым местам и др. — были заметным фактором русской этнокультурной, а временами и политической истории».
Неудивительно, что при таком восприятии мира русские заняли такое огромное пространство. Но вот почему на этом пространстве мы расселены настолько редко? Почему основной поселенческой единицей России, вплоть до большевистской геноцидной кампании по ликвидации «неперспективных деревень», была однодворная деревня? Именно эти однодворные деревни, удалённые друг от друга на несколько километров, и составили ту сеть поселений, которой русские накрыли «одну шестую часть суши». Лишь для того, чтобы включить их в систему налогообложения и государственной дисциплины, правительству пришлось создавать такой феномен, как «община», хотя потом нашлись наивные исследователи и философы, которые начали видеть особенность русского характера именно в «общинности».
На самом деле «общинность» понадобилась государству и самому обществу в России, чтобы справиться с действительной, неиллюзорной особенностью русского характера, которая предопределяет многие из описанных выше наших свойств. Этой особенностью является ярко выраженный у русских аффект обиды.
Мы — чрезвычайно обидчивы и склонны к взаимному отталкиванию. Большая часть конфликтов в русском обществе между близкими или отдалёнными людьми заканчивается тем, что они «расплёвываются» и перестают встречаться, поддерживать коммуникацию, искать совместное решение. Мы стараемся разойтись как можно дальше и заняться своими делами, а обидчик пусть занимается своими. Невозможность разойтись, принудительная необходимость оставаться вместе воспринимается русским как настоящая пытка.
Неудивительно, что при таком восприятии мира русские заняли такое огромное пространство. Но вот почему на этом пространстве мы расселены настолько редко? Почему основной поселенческой единицей России, вплоть до большевистской геноцидной кампании по ликвидации «неперспективных деревень», была однодворная деревня? Именно эти однодворные деревни, удалённые друг от друга на несколько километров, и составили ту сеть поселений, которой русские накрыли «одну шестую часть суши». Лишь для того, чтобы включить их в систему налогообложения и государственной дисциплины, правительству пришлось создавать такой феномен, как «община», хотя потом нашлись наивные исследователи и философы, которые начали видеть особенность русского характера именно в «общинности».
На самом деле «общинность» понадобилась государству и самому обществу в России, чтобы справиться с действительной, неиллюзорной особенностью русского характера, которая предопределяет многие из описанных выше наших свойств. Этой особенностью является ярко выраженный у русских аффект обиды.
Мы — чрезвычайно обидчивы и склонны к взаимному отталкиванию. Большая часть конфликтов в русском обществе между близкими или отдалёнными людьми заканчивается тем, что они «расплёвываются» и перестают встречаться, поддерживать коммуникацию, искать совместное решение. Мы стараемся разойтись как можно дальше и заняться своими делами, а обидчик пусть занимается своими. Невозможность разойтись, принудительная необходимость оставаться вместе воспринимается русским как настоящая пытка.
Отсюда загадка удивительного русского слова «воля», вроде бы обозначающего свободу, но не имеющего прецедентов в других языках. Воля — это свобода пойти куда захочешь и делать там что хочешь, а не свобода делать что хочешь, сидя на своём маленьком участке среди других таких же.
Именно доминирование в русском характере аффекта обиды делает нас в значительной степени непохожими на западных соседей. Там, среди романо-германцев, по меньшей мере со средневековья развивался другой эмоциональный строй, основанный на преобладании чувства оскорбления.
Оскорбление — это унижение. При оскорблении невозможно просто так разойтись. Напротив, становится неизбежной драка. В процессе этой драки, похожей на столкновения самцов в дикой природе, устанавливается своего рода иерархия и доминирование. Вспомним классическое начало «Трёх мушкетёров», где герои не могут не назначить друг другу дуэль по пустяковым, в сущности, поводам. Тот, кто в драке победил, оказывается выше побеждённых, они вынуждены подавлять свою агрессию и свой аффект.
Так постепенно разворачивается «процесс цивилизации», описанный одним из крупнейших социологов ХХ века Норбертом Элиасом в одноименной книге. Начав с изучения застольного этикета — не чихать, не сморкаться, не есть с ножа, — Элиас пришёл к выводу, что вся система подавления аффектов и выработки цивилизации невозможна без чувства власти, без того, что перед доминирующей фигурой (королём, господином) все вынуждены склониться и сточить когти. Но постепенно те же принципы вежливости распространяются и на других членов общества — нельзя оскорблять других, тем более безнаказанно, существует понятие чести именно как зоны, недопустимой для таких поползновений.
Именно доминирование в русском характере аффекта обиды делает нас в значительной степени непохожими на западных соседей. Там, среди романо-германцев, по меньшей мере со средневековья развивался другой эмоциональный строй, основанный на преобладании чувства оскорбления.
Оскорбление — это унижение. При оскорблении невозможно просто так разойтись. Напротив, становится неизбежной драка. В процессе этой драки, похожей на столкновения самцов в дикой природе, устанавливается своего рода иерархия и доминирование. Вспомним классическое начало «Трёх мушкетёров», где герои не могут не назначить друг другу дуэль по пустяковым, в сущности, поводам. Тот, кто в драке победил, оказывается выше побеждённых, они вынуждены подавлять свою агрессию и свой аффект.
Так постепенно разворачивается «процесс цивилизации», описанный одним из крупнейших социологов ХХ века Норбертом Элиасом в одноименной книге. Начав с изучения застольного этикета — не чихать, не сморкаться, не есть с ножа, — Элиас пришёл к выводу, что вся система подавления аффектов и выработки цивилизации невозможна без чувства власти, без того, что перед доминирующей фигурой (королём, господином) все вынуждены склониться и сточить когти. Но постепенно те же принципы вежливости распространяются и на других членов общества — нельзя оскорблять других, тем более безнаказанно, существует понятие чести именно как зоны, недопустимой для таких поползновений.
Постепенно этот взаимный отказ от оскорблений в западном «цивилизованном обществе» приобрёл всё более гротескные формы «политкорректности» и «инклюзивного языка». Чтобы никого не задеть и не оскорбить, западный человек после Второй мировой войны начал искусственно культивировать в себе малокровие, страх перед любым злым словом (на русофобию, впрочем, эта цивилизованность по-прежнему не распространяется).
Благодаря влиянию Запада российские социальная иерархия и институты также в свою очередь основываются на аффекте оскорбления. Из-за этого копирования в самом вопиющем виде мы потеряли двух своих величайших национальных поэтов: Пушкина и Лермонтова.
Однако в целом «скопированные» институты в России работают плохо именно потому, что, как показал Элиас, западная цивилизация выработана для контроля над аффектом оскорбления, который нам присущ в не очень большой степени.
А вот общественные институты, которые отвечают у русских за контроль над обидой, оказались у нас как бы в тени, вне зоны внимания и изучения. Хотя особую роль обиды в русском менталитете ощущал ещё автор «Слова о полку Игореве»:
Благодаря влиянию Запада российские социальная иерархия и институты также в свою очередь основываются на аффекте оскорбления. Из-за этого копирования в самом вопиющем виде мы потеряли двух своих величайших национальных поэтов: Пушкина и Лермонтова.
Однако в целом «скопированные» институты в России работают плохо именно потому, что, как показал Элиас, западная цивилизация выработана для контроля над аффектом оскорбления, который нам присущ в не очень большой степени.
А вот общественные институты, которые отвечают у русских за контроль над обидой, оказались у нас как бы в тени, вне зоны внимания и изучения. Хотя особую роль обиды в русском менталитете ощущал ещё автор «Слова о полку Игореве»:
«Встала обида в (этих полёгших) войсках Дажьбожья внука (т.е. русских), вступила девою на землю Трояню (на Русь), восплескала лебедиными крылами на синем море у Дона; плеская, прогнала времена обилия. Борьба князей против поганых прекратилась, ибо сказал брат брату (князь князю): "Это моё и то (тоже) моё". И стали князья про (всякую) малость "это великое" говорить, и сами (тем самым) на себя крамолу ковать. А поганые (пользуясь этим) со всех сторон приходили с победами на землю Русскую».
Так звучит объяснительный перевод Д. С. Лихачёва.
Так звучит объяснительный перевод Д. С. Лихачёва.
Стяжательство и преувеличенная обидчивость (считать малое великим) привели к расколу русской земли и непрестанным нападениям поганых. Так видел эту ситуацию автор «Слова», как бы предчувствующий скорое нашествие монголо-татар.
Цивилизация, как мы уже сказали выше, это способность справиться с аффектами и обуздать их, ввести первую, почти безотчётную реакцию в социально приемлемое поле. На Западе эта первая реакция — желание подраться и установить самцовое доминирование. У нас — желание плюнуть, развернуться и уйти.
Наш «русский аффект» ведёт нас, с одной стороны, к растеканию, экспансии (и это хорошо, и во многом поэтому у нас страна такая огромная), а с другой — к ослаблению всех человеческих связей, к хрупкости социальных институтов, которые не могли быть прочны в условиях, когда люди, их составляющие, могли в любой момент рассыпаться, как песок между пальцев, в разные стороны.
Изобилие пространства при недостатке людей и связей между ними было одним из основных вызовов нашей истории. Некоторые ответы на этот вызов горько вспоминаются нам до сих пор, например — крепостное право, изначально учреждённое для того, чтобы сохранить рабочую силу под контролем основных защитников Отечества — дворян, и не дать мужикам растечься по всей, ставшей к концу XVI века поистине необъятной, России.
В том же ряду — и пресловутая русская община, во многом заморочившая головы мыслителям-славянофилам, решившим, что она представляет собой особую форму русской социальной организации по сравнению с западным индивидуализмом. На деле община с её совместной земельной организацией была создана правительством для того, чтобы держать мужиков вместе и под контролем. А подлинным органом народного единства был «русский мiр», общественная и духовная связь крестьян, в которой никакой принудительной «колхозной» собственности не было и быть не могло. Русский мiр был прежде всего нравственным и социально-политическим учреждением.
Цивилизация, как мы уже сказали выше, это способность справиться с аффектами и обуздать их, ввести первую, почти безотчётную реакцию в социально приемлемое поле. На Западе эта первая реакция — желание подраться и установить самцовое доминирование. У нас — желание плюнуть, развернуться и уйти.
Наш «русский аффект» ведёт нас, с одной стороны, к растеканию, экспансии (и это хорошо, и во многом поэтому у нас страна такая огромная), а с другой — к ослаблению всех человеческих связей, к хрупкости социальных институтов, которые не могли быть прочны в условиях, когда люди, их составляющие, могли в любой момент рассыпаться, как песок между пальцев, в разные стороны.
Изобилие пространства при недостатке людей и связей между ними было одним из основных вызовов нашей истории. Некоторые ответы на этот вызов горько вспоминаются нам до сих пор, например — крепостное право, изначально учреждённое для того, чтобы сохранить рабочую силу под контролем основных защитников Отечества — дворян, и не дать мужикам растечься по всей, ставшей к концу XVI века поистине необъятной, России.
В том же ряду — и пресловутая русская община, во многом заморочившая головы мыслителям-славянофилам, решившим, что она представляет собой особую форму русской социальной организации по сравнению с западным индивидуализмом. На деле община с её совместной земельной организацией была создана правительством для того, чтобы держать мужиков вместе и под контролем. А подлинным органом народного единства был «русский мiр», общественная и духовная связь крестьян, в которой никакой принудительной «колхозной» собственности не было и быть не могло. Русский мiр был прежде всего нравственным и социально-политическим учреждением.
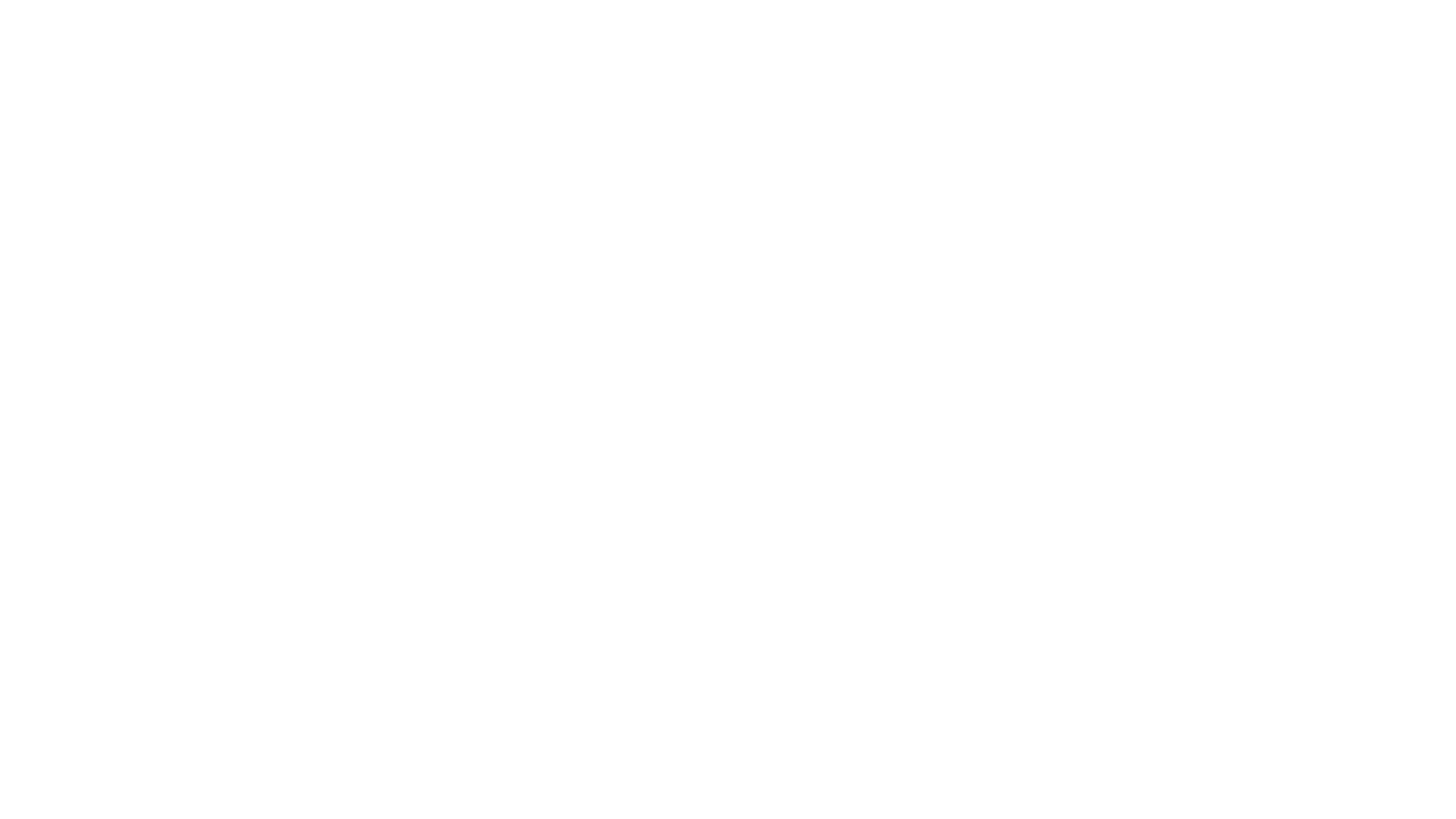
Государство и народ на огромном пространстве империи, по сути, играли в «кошки-мышки», как назвала это наш выдающийся этнолог С. В. Лурье в работе «Историческая этнология». Народ убегал от государства и его повинностей туда, где ещё не было крепкой власти, но она приходила вслед за народом и присоединяла новые земли к России. А с другой стороны, на только что завоёванные государством, часто пустынные, земли массово устремлялись люди — иной раз переселенцы даже сочиняли себе вымышленные царские привилегии, так как не может же царь-батюшка не звать народ на новую землицу.
И то, и другое движение расширяло и укрепляло государство. Если западные общества строились как иерархия самцов, обезоруженных перед суперсамцом, то русское общество было похоже скорее на забор, с помощью которого пытались остановить разбегающуюся во все стороны «живность». Впрочем, поскольку забор в реальности построить было нельзя, то использовались другие, порой весьма изощрённые методы, чтобы держать нас всех вместе.
Суровость русского самодержавия вполне может быть объяснена этой же необходимостью сдерживать и организовывать людские массы, которые устремлены растечься во все стороны по огромному пространству. Однако сущность этой формы правления состояла не в какой-то её особой строгости или жестокости, каковых не было и в помине, особенно если сопоставить русских царей с их жившими в мире «подавления оскорбления» западными современниками.
И то, и другое движение расширяло и укрепляло государство. Если западные общества строились как иерархия самцов, обезоруженных перед суперсамцом, то русское общество было похоже скорее на забор, с помощью которого пытались остановить разбегающуюся во все стороны «живность». Впрочем, поскольку забор в реальности построить было нельзя, то использовались другие, порой весьма изощрённые методы, чтобы держать нас всех вместе.
Суровость русского самодержавия вполне может быть объяснена этой же необходимостью сдерживать и организовывать людские массы, которые устремлены растечься во все стороны по огромному пространству. Однако сущность этой формы правления состояла не в какой-то её особой строгости или жестокости, каковых не было и в помине, особенно если сопоставить русских царей с их жившими в мире «подавления оскорбления» западными современниками.
Для разрешения взаимных конфликтов и обид русская цивилизация создавала порой весьма изысканные инструменты. Пока европейские аристократы дрались на дуэлях, русские вели местнические споры. В западнической историографии над институтом местничества принято издеваться — мол, тупоголовые бояре упираются и не подчиняются царскому приказу, указывая на то, что их предки знатнее предка конкурента. На самом деле местнический спор был лучшим способом институционализации обиды, которая в противном случае копилась бы и вела к бунту и измене. Для того, чтобы успешно «местничать», необходимо было помнить всю историю своего рода, историю всех других родов, причём как бы в трёхмерной модели, чтобы всегда видеть, чья служба государю длилась дольше и была выше оценена. Попробуйте держать в уме карьерные перипетии сотни своих знакомых с их семьями, и вы поймёте, что местничество, помимо прочего, нечеловечески развивало интеллект русской аристократии.
Смысл самодержавия был в том, чтобы дать в лице Государя всему народу на огромном пространстве такую фигуру, чтобы даже в условиях отсутствия связи с центральным правительством на протяжении месяцев и даже лет русский человек всё равно мог служить и делать «государево дело» — инициативно и изобретательно. Русская история XVI–XVII веков полна памяти о таких героях, которые служили государю, не получая вестей годами и даже не зная, есть ли вообще на Руси царь или же исчез в вихре Смутного времени.
Смысл самодержавия был в том, чтобы дать в лице Государя всему народу на огромном пространстве такую фигуру, чтобы даже в условиях отсутствия связи с центральным правительством на протяжении месяцев и даже лет русский человек всё равно мог служить и делать «государево дело» — инициативно и изобретательно. Русская история XVI–XVII веков полна памяти о таких героях, которые служили государю, не получая вестей годами и даже не зная, есть ли вообще на Руси царь или же исчез в вихре Смутного времени.
Да и позднее, в эпоху империи и в наши дни, такой тип служащего государю и государству вне зависимости от назначения и приказа встречался достаточно часто и был основным — вспомним, к примеру, Геннадия Невельского, который на свой страх и риск решил присоединить к России Приморье и услышал как высшую награду слова царя: «Там, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».
Настоящим чудом русской истории было духовное движение общежительных монастырей, поднятое преподобным Сергием Радонежским, который не случайно считается духовным отцом русской государственности. Преподобный Сергий создавал на Руси общежительные монастыри, в которых у монахов было всё общее — и жизнь общая, связанная с неустанным трудом. Такое единство было исключительно трудным делом даже для охваченных горением духа людей. Обида была постоянной спутницей этих обителей. Что и говорить, если сам преподобный Сергий покинул свой монастырь, где братия (включая его собственного брата Стефана) перечила ему, и вернулся лишь спустя немалое время.
И тем не менее монашество, жившее по заветам преподобного Сергия, училось эти обиды преодолевать и действовать заодно. «Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего», — так резюмировал автор жития те богословские истины и философию, которых придерживался преподобный Сергий.
Настоящим чудом русской истории было духовное движение общежительных монастырей, поднятое преподобным Сергием Радонежским, который не случайно считается духовным отцом русской государственности. Преподобный Сергий создавал на Руси общежительные монастыри, в которых у монахов было всё общее — и жизнь общая, связанная с неустанным трудом. Такое единство было исключительно трудным делом даже для охваченных горением духа людей. Обида была постоянной спутницей этих обителей. Что и говорить, если сам преподобный Сергий покинул свой монастырь, где братия (включая его собственного брата Стефана) перечила ему, и вернулся лишь спустя немалое время.
И тем не менее монашество, жившее по заветам преподобного Сергия, училось эти обиды преодолевать и действовать заодно. «Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего», — так резюмировал автор жития те богословские истины и философию, которых придерживался преподобный Сергий.
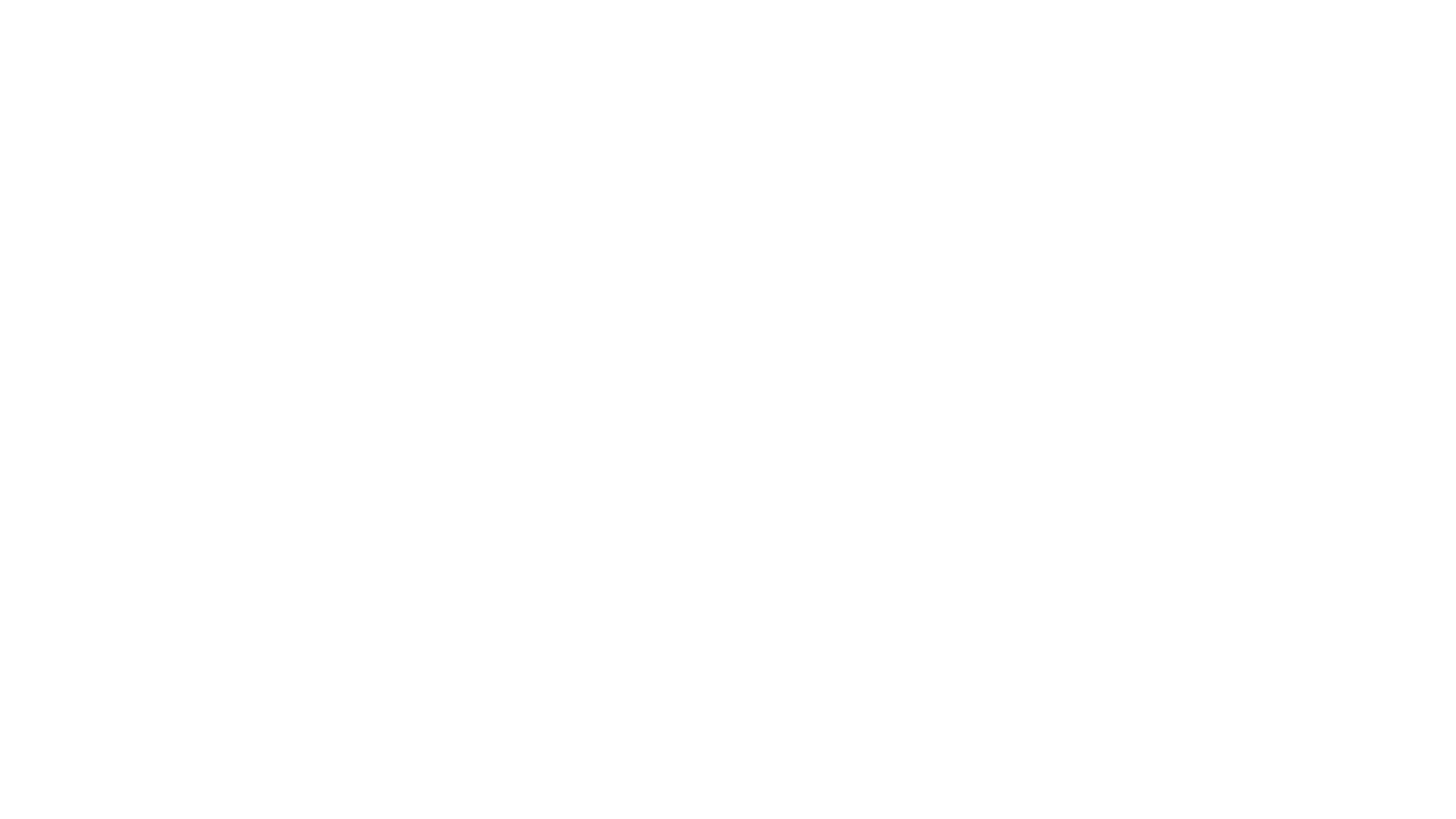
Образ Святой Троицы, Бога, единого в трех лицах, в котором невозможны ни обида, ни разделение, был главным источником вдохновения для Сергия и его учеников. И именно им обязан своим освоением Русский Север, опираясь на который Россия превратилась в огромную державу с колоссальными ресурсами. При этом отработка аффекта обиды тоже шла во славу Божию. Уставший от братии или обижавшийся монах уходил из обители и основывал новую по сергиеву же образцу, и эта новая обитель становилась ещё одной точкой притяжения русских духовных сил на бескрайнем Севере.
Сурово сдерживая проявления обиды и иногда, наоборот, отпуская её коней на волю, упорным трудом и страстным поиском лучшей земли и жизни, умением поддерживать дисциплину и способностью действовать на благо государства на свой страх и риск русская цивилизация создавала себя, своё огромное пространство.
Сурово сдерживая проявления обиды и иногда, наоборот, отпуская её коней на волю, упорным трудом и страстным поиском лучшей земли и жизни, умением поддерживать дисциплину и способностью действовать на благо государства на свой страх и риск русская цивилизация создавала себя, своё огромное пространство.
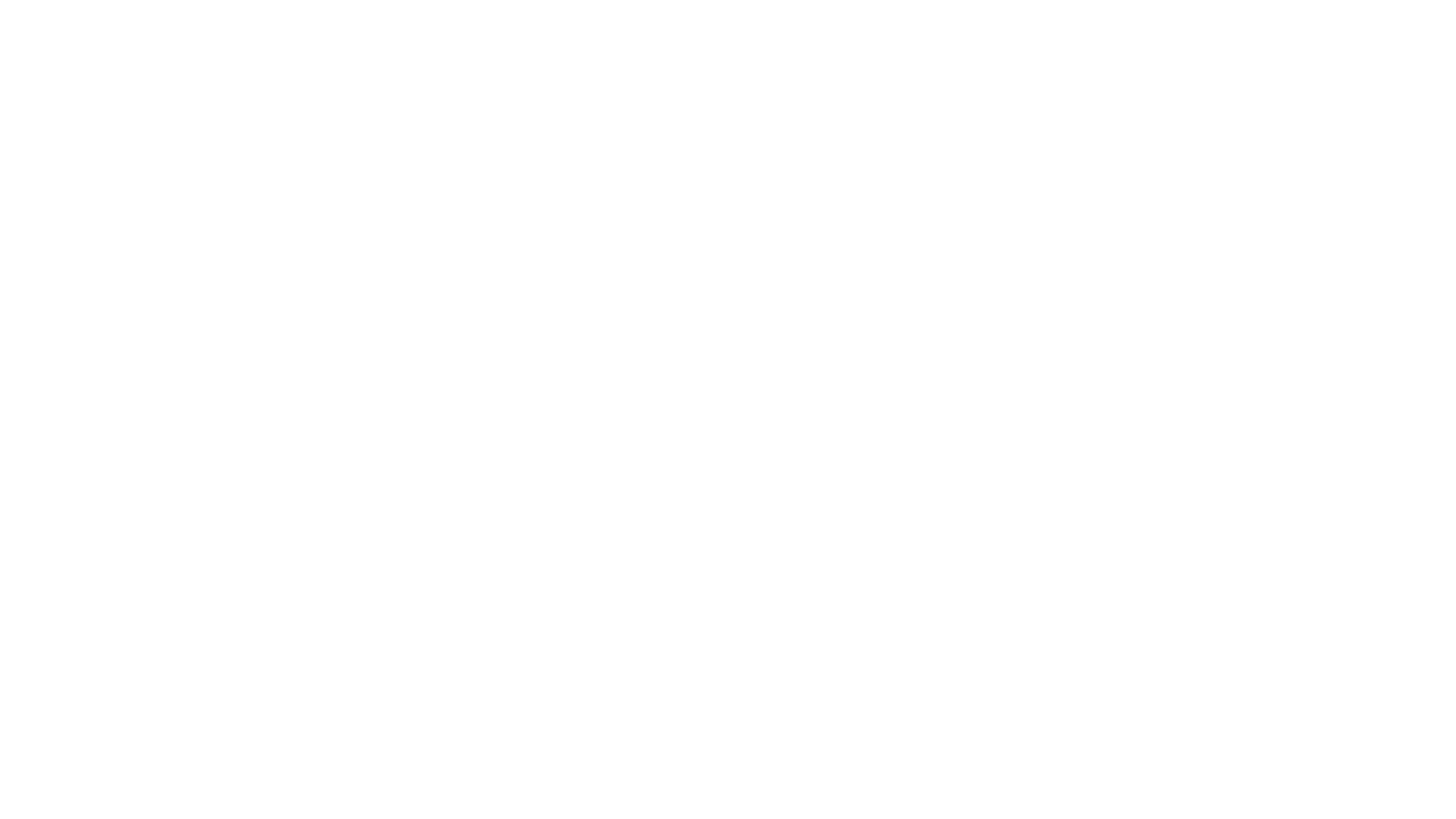
Русский национальный характер, вопреки клевете и заблуждениям, не был ни заторможенным, ни авральным и полагающимся на авось. Напротив, это характер, основанный на способности быстро усваивать любые уроки жизни, чтобы с их помощью достичь не просто невозможного, а порой немыслимого.
Наша «обидчивость», стремление повернуться и уйти, требовала особых усилий, особых социальных технологий по сплочению нации и государства. И наша цивилизация создала такие институты и технологии. Многие из них оказались утрачены под коммунистическим и либеральным игом. Первое навязывало людям принудительный коллективизм, который не делал их ближе, а заставлял, напротив, уходить в себя, во внутреннюю эмиграцию. Второе опиралось на «социального идиота», человека, который вообще не соотносит себя с обществом и нацией, искренне воображая, что все ему должны и всё можно взять силой и обманом.
Обе мрачные эпохи вроде бы преодолены, но они порушили немало в традиционном цивилизационном строе России. Восстанавливать нормальную русскую социальность, начиная с семьи и заканчивая государством, нам придётся ещё долго. Но одно, по счастью, в нашем национальном характере остаётся неизменным — жертвенная готовность настоящих русских людей, несмотря на любые обиды, несмотря на неизвестность и смуту, послужить «делу государеву» не по приказу, а по внутреннему велению совести.
Не всегда чиновникам это русское свойство нравится: зачастую им нужны не сознательные слуги государевы, а исполнительные винтики, которых проще набрать среди гастарбайтеров. Но именно это «государство внутри» — то качество, благодаря которому наша цивилизация выживает в самые сложные эпохи.
Наша «обидчивость», стремление повернуться и уйти, требовала особых усилий, особых социальных технологий по сплочению нации и государства. И наша цивилизация создала такие институты и технологии. Многие из них оказались утрачены под коммунистическим и либеральным игом. Первое навязывало людям принудительный коллективизм, который не делал их ближе, а заставлял, напротив, уходить в себя, во внутреннюю эмиграцию. Второе опиралось на «социального идиота», человека, который вообще не соотносит себя с обществом и нацией, искренне воображая, что все ему должны и всё можно взять силой и обманом.
Обе мрачные эпохи вроде бы преодолены, но они порушили немало в традиционном цивилизационном строе России. Восстанавливать нормальную русскую социальность, начиная с семьи и заканчивая государством, нам придётся ещё долго. Но одно, по счастью, в нашем национальном характере остаётся неизменным — жертвенная готовность настоящих русских людей, несмотря на любые обиды, несмотря на неизвестность и смуту, послужить «делу государеву» не по приказу, а по внутреннему велению совести.
Не всегда чиновникам это русское свойство нравится: зачастую им нужны не сознательные слуги государевы, а исполнительные винтики, которых проще набрать среди гастарбайтеров. Но именно это «государство внутри» — то качество, благодаря которому наша цивилизация выживает в самые сложные эпохи.
Автор: Егор Холмогоров

