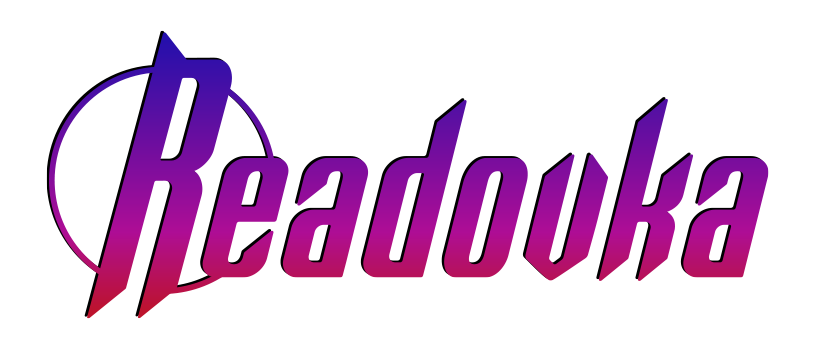Федерация позитивной дискриминации
Право русских
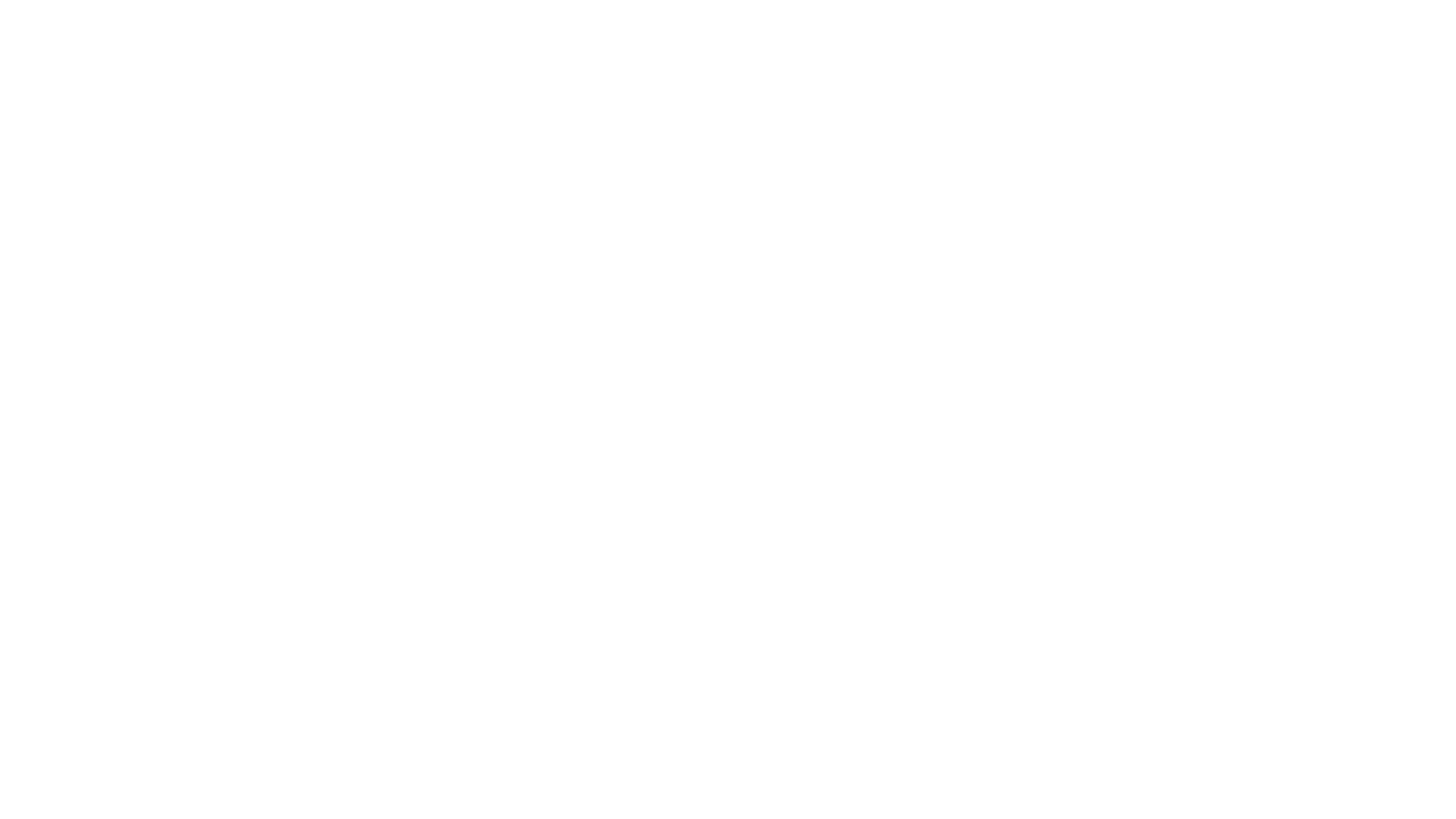
Федерация позитивной дискриминации
Право русских
Мы часто спорим по поводу того, насколько Россия может быть отнесена к мононациональным или многонациональным сообществам. «Русский вопрос» в наших виртуальных гостиных неизменно популярен все три постсоветских десятилетия, доводы сторон известны заранее и даже несколько заезжены. Однако что любопытно — чаще всего эти дискуссии исчерпываются вопросами о том, кто такие русские, есть ли у них общие интересы, есть ли специфические права. Короче говоря, в основном споры сосредоточены скорее на академической сфере.
Россия считается страной многонациональной. Пункт про «многонациональный народ» вбит у нас прямо в третью статью Конституции. Это происходит в ситуации, когда — общее место — более 80% населения страны составляет один народ, вовсе даже не многонациональный, а конкретный, государствообразующий. То есть русские. Сразу скажем, пресловутых «критериев ООН», которые якобы указывают, что это как раз и есть рубеж между моно- и полиэтническими странами, не существует. Тем не менее мы имеем два очевидных факта. Во-первых, государственность России строится именно на базе русского народа; это единственный народ, без которого Россия как таковая не существует. Во-вторых, оставшиеся 20% — это в любом случае много, мы говорим о 25-30 млн человек.
Однако дискуссии о том, многонациональная мы страна или мононациональная, каковы критерии отнесения к тому или иному народу (почему-то споры вызывают только русские, вопроса «кто такой калмык» ни у калмыков, ни у кого другого нет), — это всё же споры о терминологии. Но в нашем случае голая терминология ничего не даёт и никуда нас не ведёт. Всё же стоит задать вопрос: а в чём конкретно эта многонациональность выражается.
Национальную политику России сформировало наследие политики советской. А та на ценностном уровне подразумевала ускоренное развитие национальных окраин. Это было для советской политики не тактическим шагом, не капризом, а вытекало из самих основ философии советских лидеров и идеологов.
Советский Союз был страной «позитивной дискриминации». Этот термин означает не прямое угнетение большинства, а предоставление преимуществ меньшинствам, в данном случае — национальным окраинам. Более активное строительство, чем в «метрополии», лучший доступ к образованию, явные и неявные привилегии и послабления. С точки зрения советских лидеров, таким образом требовалось ликвидировать разрыв в развитии между центром и периферией. На практике эта политика привела к тому, что РСФСР, будучи крупнейшей республикой, оказалась бедным родственником, в то время как элиты национальных республик вовсе не преисполнялись лояльностью к советскому проекту и в итоге отделились, унеся свои территории, кадры, строившиеся всей страной объекты народного хозяйства.
В немалой степени современная Россия повторяет ошибки минувшего, но уже на другом историческом этапе, с иными мотивами и привходящими обстоятельствами. Сейчас смешно говорить об идеологемах, которые волновали Ленина и Троцкого или даже Хрущёва и Брежнева. Однако наша страна стоит перед другими вызовами, включая межнациональные конфликты. И самым простым выходом, с точки зрения российской политической элиты, начиная с 90-х осталась та же самая позитивная дискриминация, но уже с иными задачами и в несколько иных формах.
С одной стороны, некоторые российские регионы имеют очевидно куда большую степень свободы, чем другие. Среди любимых детей есть самые любимые, и некоторые из субъектов РФ обладают таким уровнем самостоятельности, который другим не снился. Фактически у нас сложилась ситуация, когда явочным порядком в части республик установлены обычаи, несколько отличающиеся от общефедеральных законов, и это касается и отношения к вере, и дресс-кода, и практик управления. Сложно представить, чтобы Тверская или Новгородская области получили такую же степень свободы во внутренних делах, как некоторые южные регионы. С другой — сложилось устройство экономики, позволяющее таким анклавам благоденствовать, на удивление мало производя самостоятельно. Да, дотационным регионом у нас никого не удивишь, однако некоторые республики, включая Дагестан, Чечню, Тыву, отличаются очень высокой степенью дотационности. Федеральные средства в больших объёмах поступают и в Якутию, и на Камчатку, но там мы можем говорить об исключительно тяжёлых природных и географических условиях, тут всё логично. А вот ситуация в республиках Кавказа вызывает уже недоумение. Причём проблема не в том, что народы этих регионов какие-то менее трудолюбивые, чем другие. Вопрос всегда в условиях. И тут он в том, что деньги, выделяемые «для поддержки штанов», только так и используются, без развития своими силами собственных производств.
Россия считается страной многонациональной. Пункт про «многонациональный народ» вбит у нас прямо в третью статью Конституции. Это происходит в ситуации, когда — общее место — более 80% населения страны составляет один народ, вовсе даже не многонациональный, а конкретный, государствообразующий. То есть русские. Сразу скажем, пресловутых «критериев ООН», которые якобы указывают, что это как раз и есть рубеж между моно- и полиэтническими странами, не существует. Тем не менее мы имеем два очевидных факта. Во-первых, государственность России строится именно на базе русского народа; это единственный народ, без которого Россия как таковая не существует. Во-вторых, оставшиеся 20% — это в любом случае много, мы говорим о 25-30 млн человек.
Однако дискуссии о том, многонациональная мы страна или мононациональная, каковы критерии отнесения к тому или иному народу (почему-то споры вызывают только русские, вопроса «кто такой калмык» ни у калмыков, ни у кого другого нет), — это всё же споры о терминологии. Но в нашем случае голая терминология ничего не даёт и никуда нас не ведёт. Всё же стоит задать вопрос: а в чём конкретно эта многонациональность выражается.
Национальную политику России сформировало наследие политики советской. А та на ценностном уровне подразумевала ускоренное развитие национальных окраин. Это было для советской политики не тактическим шагом, не капризом, а вытекало из самих основ философии советских лидеров и идеологов.
Советский Союз был страной «позитивной дискриминации». Этот термин означает не прямое угнетение большинства, а предоставление преимуществ меньшинствам, в данном случае — национальным окраинам. Более активное строительство, чем в «метрополии», лучший доступ к образованию, явные и неявные привилегии и послабления. С точки зрения советских лидеров, таким образом требовалось ликвидировать разрыв в развитии между центром и периферией. На практике эта политика привела к тому, что РСФСР, будучи крупнейшей республикой, оказалась бедным родственником, в то время как элиты национальных республик вовсе не преисполнялись лояльностью к советскому проекту и в итоге отделились, унеся свои территории, кадры, строившиеся всей страной объекты народного хозяйства.
В немалой степени современная Россия повторяет ошибки минувшего, но уже на другом историческом этапе, с иными мотивами и привходящими обстоятельствами. Сейчас смешно говорить об идеологемах, которые волновали Ленина и Троцкого или даже Хрущёва и Брежнева. Однако наша страна стоит перед другими вызовами, включая межнациональные конфликты. И самым простым выходом, с точки зрения российской политической элиты, начиная с 90-х осталась та же самая позитивная дискриминация, но уже с иными задачами и в несколько иных формах.
С одной стороны, некоторые российские регионы имеют очевидно куда большую степень свободы, чем другие. Среди любимых детей есть самые любимые, и некоторые из субъектов РФ обладают таким уровнем самостоятельности, который другим не снился. Фактически у нас сложилась ситуация, когда явочным порядком в части республик установлены обычаи, несколько отличающиеся от общефедеральных законов, и это касается и отношения к вере, и дресс-кода, и практик управления. Сложно представить, чтобы Тверская или Новгородская области получили такую же степень свободы во внутренних делах, как некоторые южные регионы. С другой — сложилось устройство экономики, позволяющее таким анклавам благоденствовать, на удивление мало производя самостоятельно. Да, дотационным регионом у нас никого не удивишь, однако некоторые республики, включая Дагестан, Чечню, Тыву, отличаются очень высокой степенью дотационности. Федеральные средства в больших объёмах поступают и в Якутию, и на Камчатку, но там мы можем говорить об исключительно тяжёлых природных и географических условиях, тут всё логично. А вот ситуация в республиках Кавказа вызывает уже недоумение. Причём проблема не в том, что народы этих регионов какие-то менее трудолюбивые, чем другие. Вопрос всегда в условиях. И тут он в том, что деньги, выделяемые «для поддержки штанов», только так и используются, без развития своими силами собственных производств.
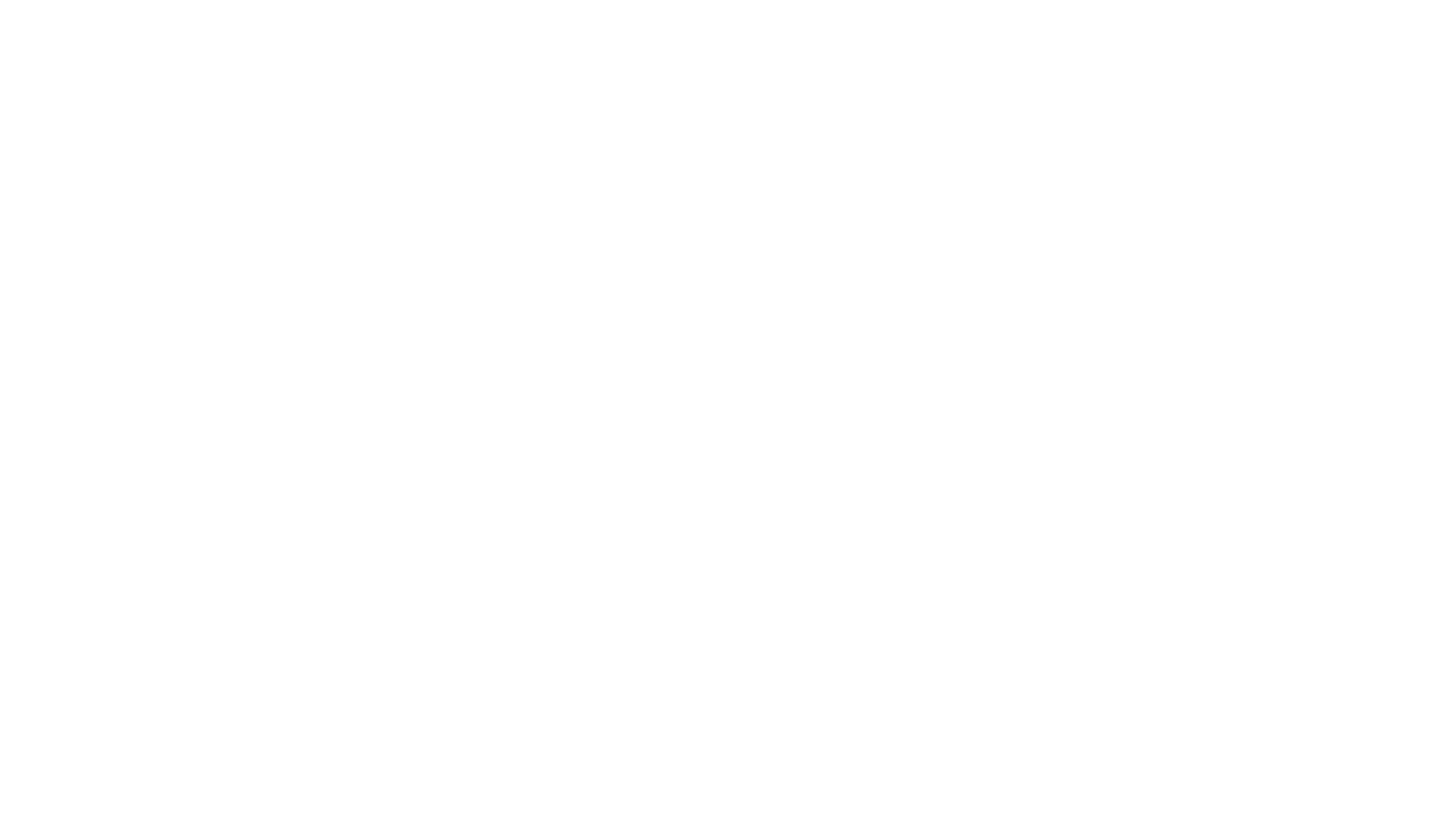
Ситуация, когда центр выкачивает соки из провинции явно нездорова; ситуация, когда регион только потребляет, ничего не создавая, — тоже. За последние три десятилетия сложилась порочная практика, когда некоторые субъекты очевидно равнее других получают деньги и привилегии, но ситуация внутри них не меняется к лучшему. И такая модель экономики вредит в первую очередь самим республикам, получающим дотации. Это только тормозит их развитие. Перед региональными лидерами должен быть поставлен вопрос о том, что они делают, чтобы сделать свои области более самостоятельными на деле, что они делают, чтобы исправить положение. В текущей ситуации поддержание национального спокойствия распределением дотаций — это просто создание коррупционных механизмов. У нас перед глазами стоит для сравнения пример Татарстана, где не только берут дотации, но и развивают собственные производства, и это работает.
С другой стороны, не нужно бояться, что экономически развитая провинция будет демонстрировать какие-то сепаратистские тенденции. Этого не будет в первую очередь потому, что Россия как целое даёт не только и не столько ценные указания, а рынок, возможность зарабатывать на нём, возможность обучать специалистов, возможность маневрировать рабочей силой, привлекая её свободно внутри страны. Кстати, возможность делать карьеру — в министерствах державы, в больших промышленных корпорациях, в огромных вооружённых силах.
Единое пространство (в том числе географически: на эффективности трубопроводов, например, плохо сказываются десять таможен по дороге) даёт массу преимуществ и как раз надёжнее привязывает регионы друг к другу и центру, чем бесконечный поток денежных переводов. Мы — империя, и в данном случае это не просто красивое слово, это не эстетическая категория. Русский народ скрепляет это пространство, даёт общность истории, языка и культуры. Без него тут просто ничего не будет, поскольку рассыпавшиеся части единого целого окажутся в реальности, где об их благополучии не заботится вообще никто. Однако нам следует отказаться от практик, давно отживших и мешающих развитию как областей-доноров, так и тех, кто питается от их богатства.
Россия сложилась как государство русских со множеством других народов, которые разделили с нами нашу историческую судьбу. И, стало быть, как творец этой страны на огромной части обитаемой суши русский народ вправе настаивать на том, чтобы власть не рассматривала его как топливо для реализации великих проектов, не утверждала политические и философские концепции за его счёт, а работала на его благо и строила политику на основе его жизненных интересов. Более того, этот принцип работает не так, что на чужом горбу мы собираемся въехать в рай. Наоборот. Хорошо русским — хорошо всем. Плохо русским — проблемы начинаются и у других народов. Это вопрос рынков, это вопрос доступа к образованию и медицине, это вопрос общей инфраструктуры, это вопрос функционирования всей государственной машины.
Мы не ставим вопрос о принижении каких-то других народов России. Но без нас здесь ничего не будет.
С другой стороны, не нужно бояться, что экономически развитая провинция будет демонстрировать какие-то сепаратистские тенденции. Этого не будет в первую очередь потому, что Россия как целое даёт не только и не столько ценные указания, а рынок, возможность зарабатывать на нём, возможность обучать специалистов, возможность маневрировать рабочей силой, привлекая её свободно внутри страны. Кстати, возможность делать карьеру — в министерствах державы, в больших промышленных корпорациях, в огромных вооружённых силах.
Единое пространство (в том числе географически: на эффективности трубопроводов, например, плохо сказываются десять таможен по дороге) даёт массу преимуществ и как раз надёжнее привязывает регионы друг к другу и центру, чем бесконечный поток денежных переводов. Мы — империя, и в данном случае это не просто красивое слово, это не эстетическая категория. Русский народ скрепляет это пространство, даёт общность истории, языка и культуры. Без него тут просто ничего не будет, поскольку рассыпавшиеся части единого целого окажутся в реальности, где об их благополучии не заботится вообще никто. Однако нам следует отказаться от практик, давно отживших и мешающих развитию как областей-доноров, так и тех, кто питается от их богатства.
Россия сложилась как государство русских со множеством других народов, которые разделили с нами нашу историческую судьбу. И, стало быть, как творец этой страны на огромной части обитаемой суши русский народ вправе настаивать на том, чтобы власть не рассматривала его как топливо для реализации великих проектов, не утверждала политические и философские концепции за его счёт, а работала на его благо и строила политику на основе его жизненных интересов. Более того, этот принцип работает не так, что на чужом горбу мы собираемся въехать в рай. Наоборот. Хорошо русским — хорошо всем. Плохо русским — проблемы начинаются и у других народов. Это вопрос рынков, это вопрос доступа к образованию и медицине, это вопрос общей инфраструктуры, это вопрос функционирования всей государственной машины.
Мы не ставим вопрос о принижении каких-то других народов России. Но без нас здесь ничего не будет.
Автор: Евгений Норин