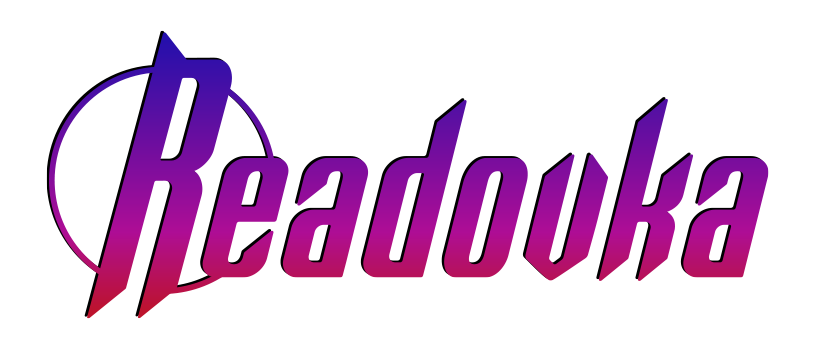Иран и Россия
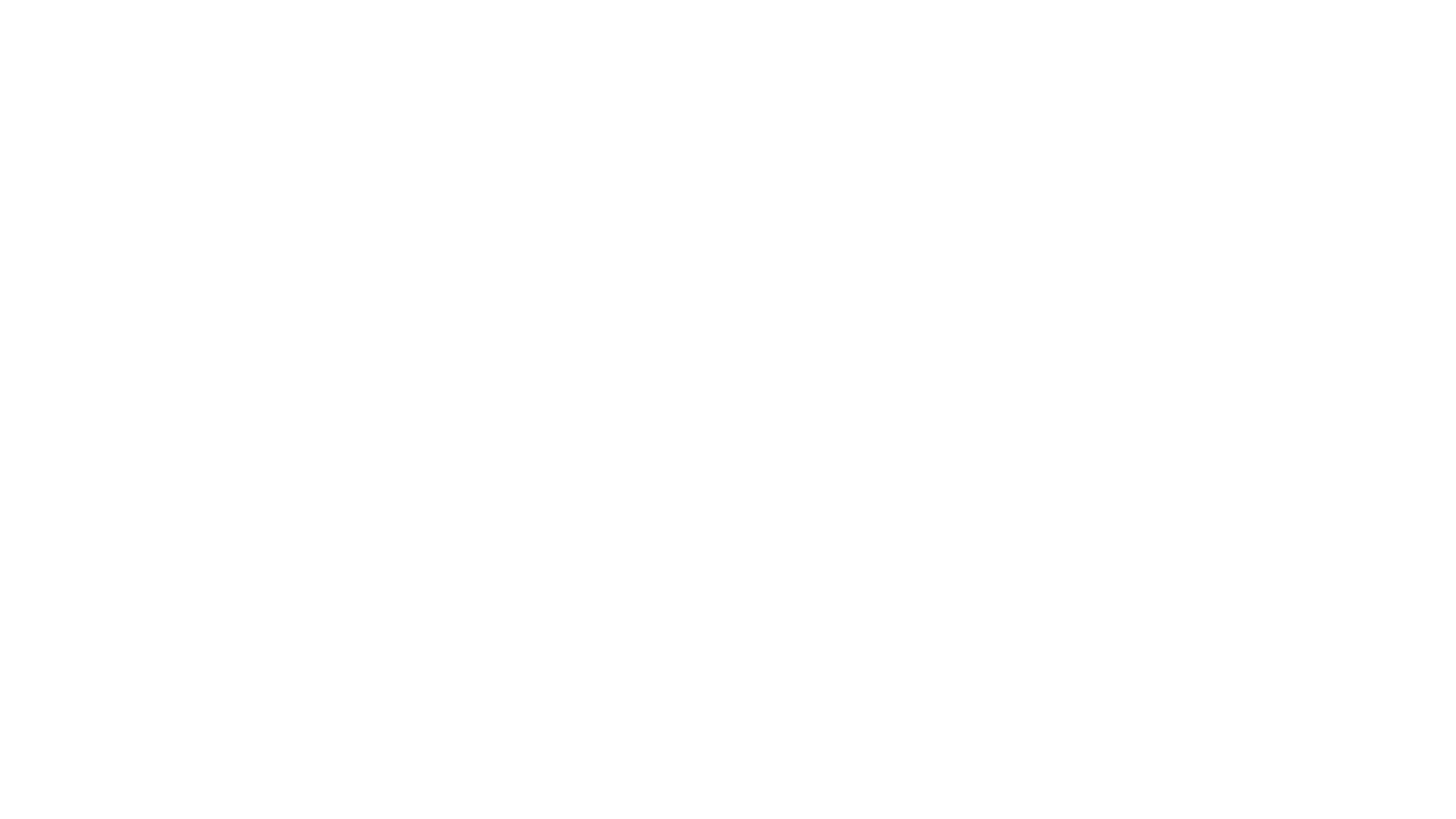
Иран и Россия
С именем Персии у обывателей связан обширный ряд культурных ассоциаций. Спроси, что первое приходит в голову при упоминании этого государства, которое сегодня весь мир знает как Иран, и многие наверняка ответят «персидский ковер». История отношений наших стран настолько же пестрая, как узор этого традиционного восточного изделия. Были там и вражда, и плодотворное партнерство, и сложнейшие международные политические комбинации с участием других мировых игроков.
Послы заморские
Первые документированные контакты между Россией и Ираном относятся к XVI веку. К тому моменту персидское государство Сефевидов включало в себя современное Закавказье, территории нынешних Ирана, Ирака, Кувейта. Простиралось оно на восток до Пакистана. Первый раз персидские послы с богатыми дарами приехали будто бы еще к князю Василию III в 1521 году. Попытки установить уже полноценные контакты продолжились уже при его сыне и наследнике – царе Иване Грозном. С завоеванием Астраханского ханства, выйдя на берега Каспийского моря, русские столкнулись с новыми соседями. Поначалу связи наладили через вассала Персии – кумыкского шамхала Чопана I. Вотчина его, Тарковское шамхальство со столицей в древнем городе Тарки (некогда столице Хазарского каганата, сегодня это поселок в пригороде Махачкалы), лежала за рекой Терек, по руслу которой пролегла новая русская граница.
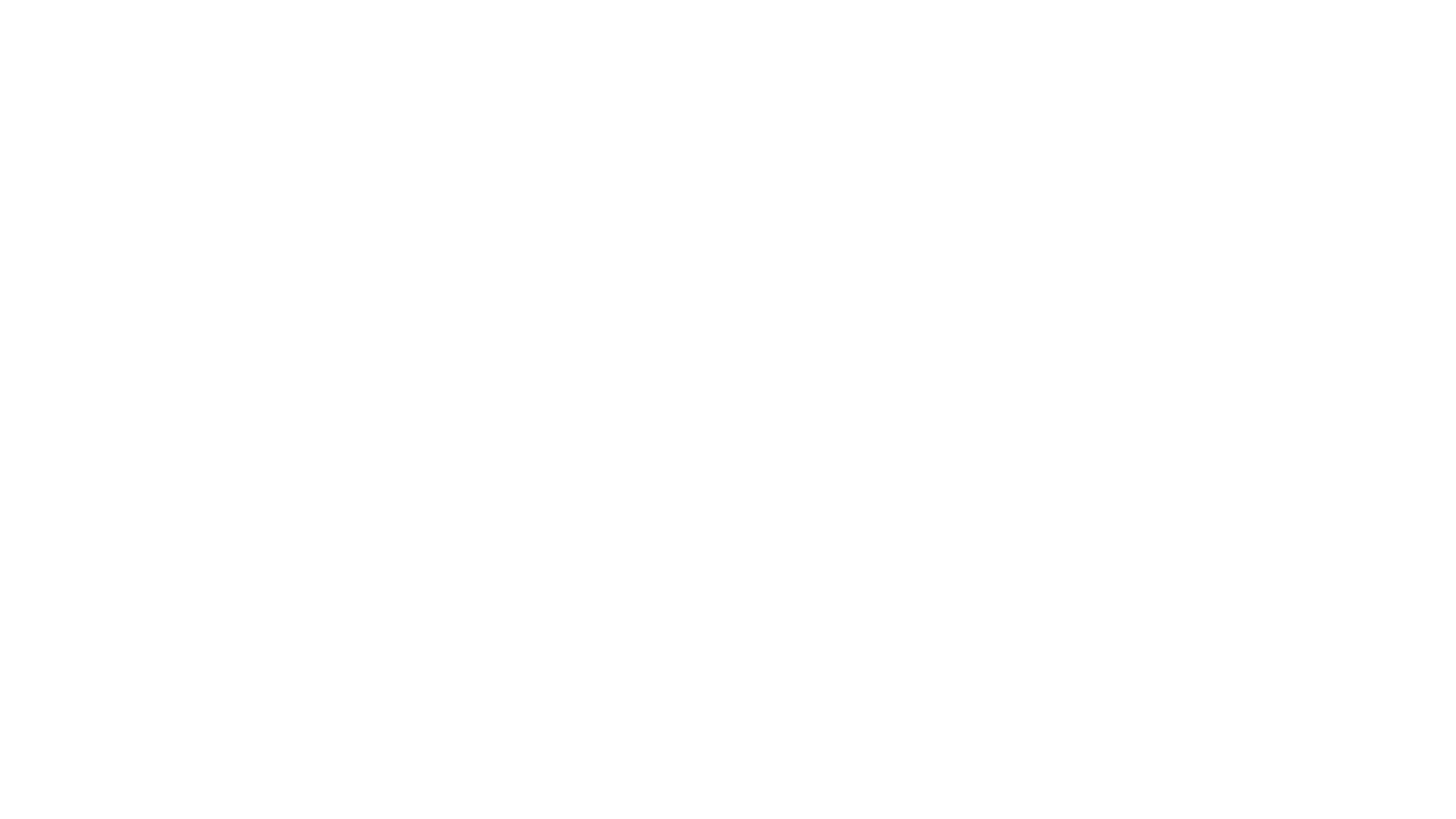
Далее, уже стараниями наследников – царя Федора I Иоанновича, сына Грозного, (а после него Бориса Годунова) и шаха Аббаса I (впоследствии прозванного Великим), внука Тахмаспа – предпринимались попытки оформления настоящего союза. У Рюриковичей и Сефевидов имелись как минимум две причины для этого – торговля и противостояние с турками (в нашем случае с крымским ханом, верным вассалом султана). Но, как бы то ни было, о братской любови, что описывалась в письме дипломата Васильчикова на Москву, в ту эпоху стороны за несколько лет договориться так и не смогли. По основной версии, яблоком раздора, как не раз и в последующие времена, стал Кавказ. А там на Руси началась своя Смута, пока империя Аббаса крепла и расцветала. И стало во всех смыслах – политическом, человеческом – не до этого.
Врата в Азию
С установлением новой династии Романовых Персия вновь вытащила из-под сукна проект прочных дипломатических отношений с нашей страной. Документы того периода сохранились в большом количестве и по неведомой причине практически не изучались до сегодняшних дней. Меж тем они открывают буквально затерянный фрагмент в общей картине русско-иранского политического взаимодействия. Царства активно обменивались посольствами, и, более того, персидский шах Аббас II оказывал военную помощь Москве, в частности, селитрой для пороха, коего не хватало для новой войны с Речью Посполитой, которая пройдет в 1632-1634 гг. и будет названа Смоленской.
Шли годы, и политическое плетение судеб вновь и вновь менялось. Теперь слабела некогда могучая Сефевидская империя великого Аббаса и его наследников, а вот России Бог послал своего Великого – царя Петра. Триумфально закончив многолетнюю Северную войну, государь-реформатор вновь обратил взор на персидские владения. На 1722 год был назначен и собран персидский поход, возглавляемый самим Петром и нацеленный на присоединение юго-восточного Закавказья и Дагестана
Шли годы, и политическое плетение судеб вновь и вновь менялось. Теперь слабела некогда могучая Сефевидская империя великого Аббаса и его наследников, а вот России Бог послал своего Великого – царя Петра. Триумфально закончив многолетнюю Северную войну, государь-реформатор вновь обратил взор на персидские владения. На 1722 год был назначен и собран персидский поход, возглавляемый самим Петром и нацеленный на присоединение юго-восточного Закавказья и Дагестана
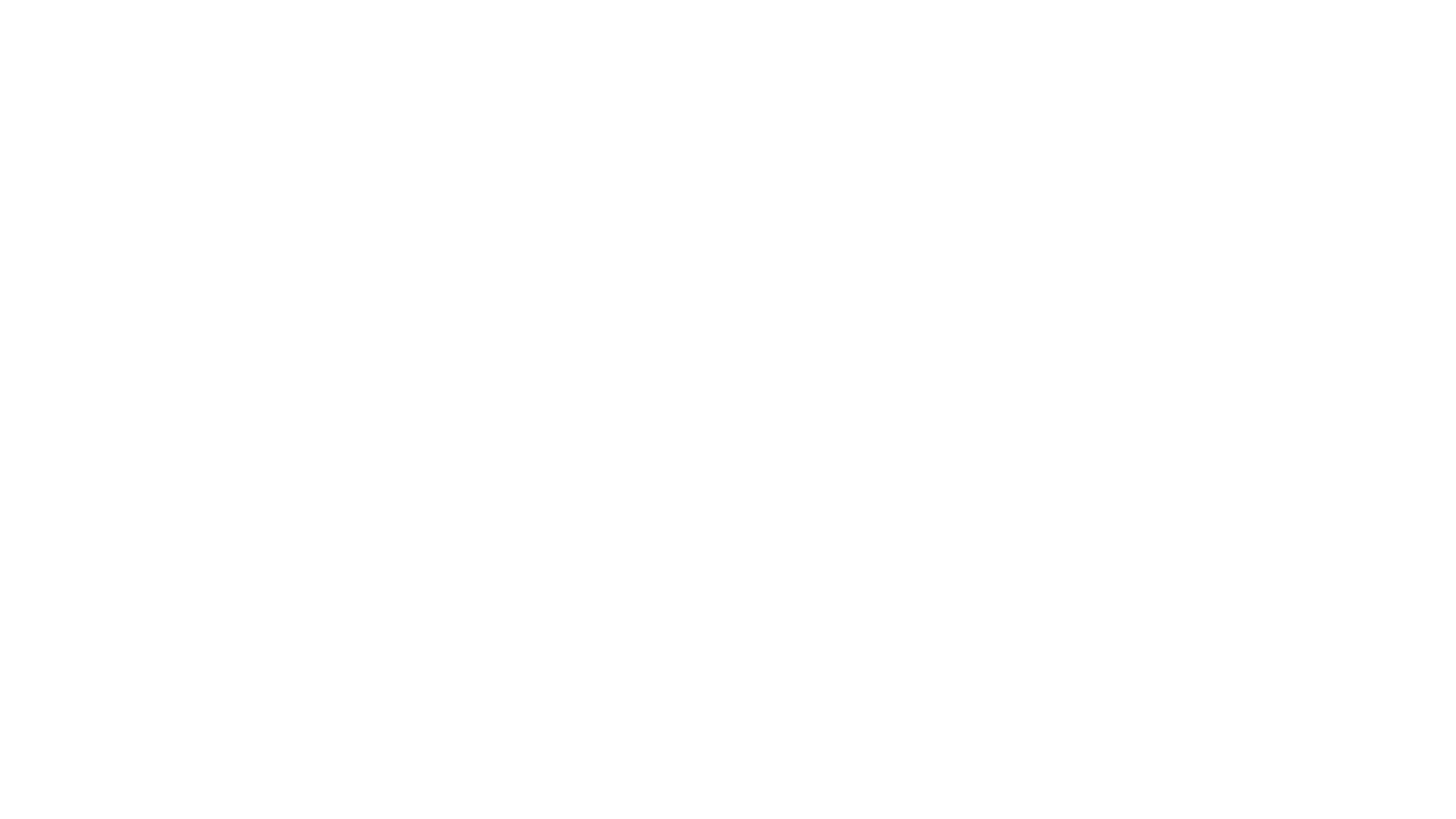
Перспективы прожекта небезосновательно рисовались блестящими: Персия в глубоком политическом кризисе, армия, по донесениям посла Артемия Волынского, изрядно ослаблена, а при достижении цели похода выстраивается эффективная торговая артерия из Европы в Индию через Каспийское море (и, соответственно, через Россию). В результате двух кампаний и вмешательства третьей стороны, Османской империи, вторгшейся, в свою очередь, в Персию, в сентябре 1723 года был заключен Петербургский мир, по которому шах признавал за Россией Дербент, Баку и уступал Гилян, Мазендеран и Астрабад. В глобальном же смысле мы приобрели все западное и южное побережье Каспия. Правда, спустя 10 лет племянница Петра Анна Иоанновна, мысля уже о новой войне с турками, по Рештскому (1732 года) и Гянджинскому (1735 года) договорам отдала в конце концов все обратно Персии в залог военного союза против султана, а граница переместилась на реку Куру, но это уже другая история.
Великомудрая Семирамида
Вернулись к оружию Россия и Персия уже в конце XVIII столетия, когда в результате кризиса и смут на шахский трон пришла династия Каджаров, править которая будет аж до 1925 года, в России же уверенно царствовала императрица Екатерина II. Как и подобает искусному политику и стратегу, она следила за происходящим как в Европе, так и на Востоке и ролью стороннего наблюдателя себя не ограничивала. Пользуясь неутихающими междоусобицами, Екатерина II планировала привести к власти в Персии своего ставленника – принца Муртазу Кули-хана, брата нового шаха Ага-Мохаммеда. В пользу Муртазы говорили его крепкие позиции в провинциях Северного Ирана – ключевых для русских торговых интересах. Он дважды поднимал восстания против брата, в 1784 и 1787 годах, но оба раза оказался побежден и был вынужден бежать под покровительство августейшей патронессы.
Неудача с воцарением своего протеже вынудила императрицу на время отложить персидский проект, но не забыть о нем. Да и шах Ага-Мохаммед затаил на Российскую империю и ее правительницу лютую злобу, что проявлялась в прямой и беспощадной восточной манере – разорением русского консульства, сжиганием русских сооружений в каспийском порту Энзели и другими способами. Союз же с Петербургом мстительный шах использовал как предлог для вторжения в грузинские земли, а царь Картли-Кахетии Ираклий II Багратиони обратился в Петербург за военной помощью. И в этот самый момент, в 1795 году, на сукне геополитического стола все нужные карты сложились в занимательный изящный пасьянс.
Все европейские ключевые игроки были глубоко вовлечены в войну с Революционной Францией (в чем косвенно принимала участие и сама Екатерина, демонстрируя готовность по первому зову послать военный контингент во главе с самим Суворовым), Турция побеждена ею самой, а Ага-Мохаммед, каким бы грозным ни представлялся, правил уже не той могучей Персией, что создали Сефевиды. С их падением государство раскололось на феодальные черепки, в случае Закавказья – на небольшие самостоятельные ханства и царства. Не предпринять продолжение русской экспансии на юго-восток, по старинному Петровскому плану, было нельзя.
Начавшийся в декабре 1795 года поход должен был повторить успехи Петра Великого и воплотить его же замысел – Каспийский берег, флот и прямой торговый путь из Европы в Индию. Командиром назначили брата последнего фаворита Екатерины, генерала Валериана Зубова, и командовал он недурно, о чем свидетельствуют результаты экспедиции. Осажденный Дербент взяли штурмом в мае 1796 года.
Неудача с воцарением своего протеже вынудила императрицу на время отложить персидский проект, но не забыть о нем. Да и шах Ага-Мохаммед затаил на Российскую империю и ее правительницу лютую злобу, что проявлялась в прямой и беспощадной восточной манере – разорением русского консульства, сжиганием русских сооружений в каспийском порту Энзели и другими способами. Союз же с Петербургом мстительный шах использовал как предлог для вторжения в грузинские земли, а царь Картли-Кахетии Ираклий II Багратиони обратился в Петербург за военной помощью. И в этот самый момент, в 1795 году, на сукне геополитического стола все нужные карты сложились в занимательный изящный пасьянс.
Все европейские ключевые игроки были глубоко вовлечены в войну с Революционной Францией (в чем косвенно принимала участие и сама Екатерина, демонстрируя готовность по первому зову послать военный контингент во главе с самим Суворовым), Турция побеждена ею самой, а Ага-Мохаммед, каким бы грозным ни представлялся, правил уже не той могучей Персией, что создали Сефевиды. С их падением государство раскололось на феодальные черепки, в случае Закавказья – на небольшие самостоятельные ханства и царства. Не предпринять продолжение русской экспансии на юго-восток, по старинному Петровскому плану, было нельзя.
Начавшийся в декабре 1795 года поход должен был повторить успехи Петра Великого и воплотить его же замысел – Каспийский берег, флот и прямой торговый путь из Европы в Индию. Командиром назначили брата последнего фаворита Екатерины, генерала Валериана Зубова, и командовал он недурно, о чем свидетельствуют результаты экспедиции. Осажденный Дербент взяли штурмом в мае 1796 года.
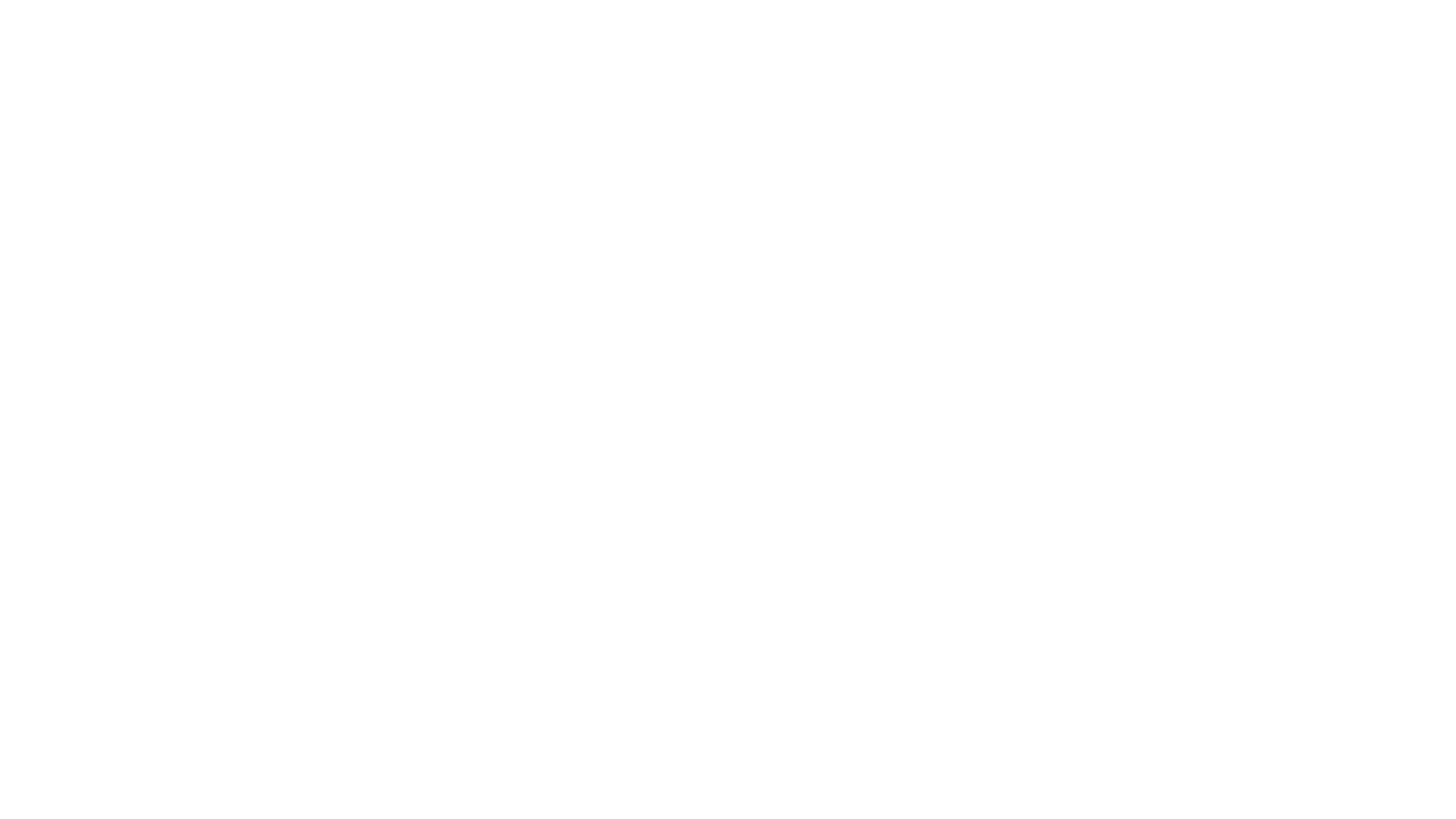
Волевая победа русского корпуса, составленного из двух пехотных и двух кавалерийских бригад, продемонстрировала всем участникам конфликта расклад сил. Взятие Дербента вдохновило придворного поэта Державина на сочинение нового произведения, а азербайджанских ханов – на сговорчивость и сотрудничество. Друг за другом сдались Куба (Губа), Шемаха (Шемахы), был сдан Баку. Но в ноябре 1796 года триумфальное шествие русского корпуса обрывается: скоропостижно умирает императрица, ее сын Павел I приказывает войскам немедленно возвращаться из Закавказья, никак не закрепляя территориальные приобретения. Таким образом, старинный прожект вновь не был реализован, и, хотя к нему в скором времени уже вернулись, в дальнейшем эти же приобретения дались нам уже куда большей кровью.
Багровый алмаз в короне Империи
Не прошло 10 лет с описанных выше драматичных событий, как в Петербурге вновь сменился государь – в марте 1801 года Павел I был убит заговорщиками, на престол сел его сын Александр Павлович. Ему досталось запутанное наследие от предшественников, и решение оставленных ими проблем было неизбежно. Так получилось, в частности, с Персией. Разговор пушек и парламентеров оборвался на полуслове, а незатянутые раны – предметы спора – лишь загнаивались. Прежде всего это касалось Картли-Кахетии (она же Восточная Грузия), которую Павел I за несколько недель до смерти указом присоединил к Российской империи. Там же еще раньше началась своя междоусобица среди семи сыновей умершего царя Ираклия. Именно ее запутанные события, в которые оказались прямым образом вовлечены русский император (в 1803 году присоединивший к России еще и Мегрелию с Имеретией) и персидский шах, стали предпосылкой к новой кровопролитной войне.
Продолжавшиеся в Закавказье успешные действия русской армии, в частности покорение Джаро-Белоканских джамаатов и Илисуйского султаната (ныне территории Азербайджана и частично Дагестана) отрядом генерала Василия Гулякова, склонили местных ханов, Эриванского и Бакинского, к новым переговорам. В результате главнокомандующему князю Цицианову открылась дорога на ключевой форпост в Закавказье – Гянджу. Ожесточенный штурм и взятие мощнейшей в округе старинной крепости, состоявшееся в январе 1804 года, окончательно толкнули Фетх Али-шаха – нового правителя Персии, племянника Ага-Мохаммеда и Муртазы Кули-хана – на сбор войска и начало полномасштабной войны.
Продолжавшиеся в Закавказье успешные действия русской армии, в частности покорение Джаро-Белоканских джамаатов и Илисуйского султаната (ныне территории Азербайджана и частично Дагестана) отрядом генерала Василия Гулякова, склонили местных ханов, Эриванского и Бакинского, к новым переговорам. В результате главнокомандующему князю Цицианову открылась дорога на ключевой форпост в Закавказье – Гянджу. Ожесточенный штурм и взятие мощнейшей в округе старинной крепости, состоявшееся в январе 1804 года, окончательно толкнули Фетх Али-шаха – нового правителя Персии, племянника Ага-Мохаммеда и Муртазы Кули-хана – на сбор войска и начало полномасштабной войны.
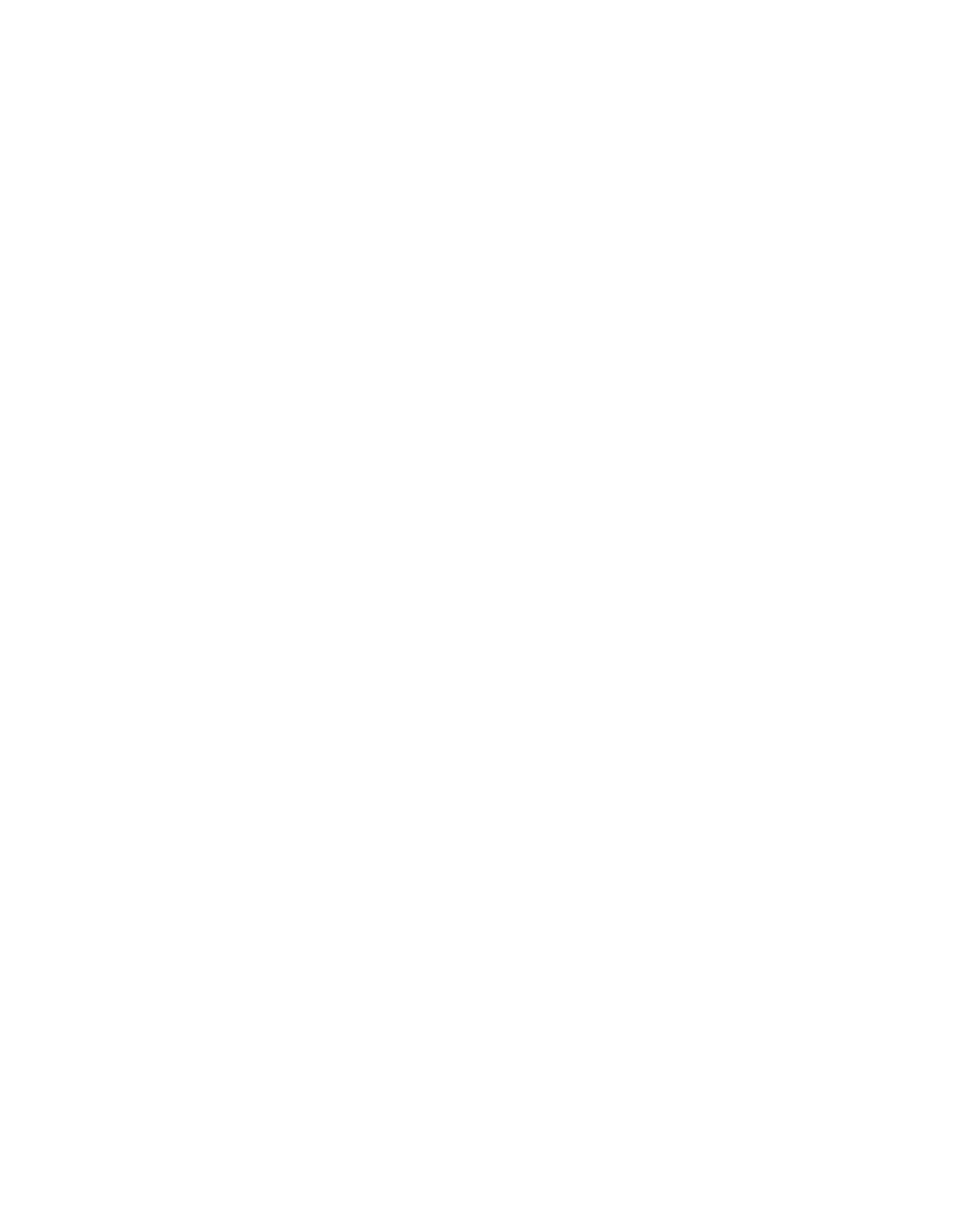
Русско-персидская война продлилась в общей сложности 9 лет. Параллельно с ней продолжались и очередная Русско-турецкая, и Русско-шведская войны, не говоря уже о кампаниях против Наполеоновской Франции. Даже само вторжение Наполеона 1812 года не заставило закончить раньше времени смертоносное соперничество императорских и шахских войск далеко в Закавказье. Отголоски и колебания глобальных потрясений в Европе доходили и до этого театра военных действий и, конечно, сказывались по-своему на развитии ситуации. Пока действовало перемирие, Фетх Али-шах успел заключить в 1806 году союз с Наполеоном, а далее, пожалуй, впервые столь явственно в закулисье выступил будущий бессменный соперник Петербурга в восточных и азиатских делах – Великобритания в лице своего посланника сэра Джона Малькольма, главного тайного агента генерал-губернатора Индии, резидента с неограниченными инструкциями полномочиями. Ловко плетя интриги в Тегеране, он сумел перетянуть шаха на свою сторону, пролоббировав заключение нового союза Персии и Британской империи не только и не столько против Парижа, сколько в пику России.
Перемирие закончилось в 1807 году, когда появилась прямая опасность соединения турецких и персидских сил в единый кулак с целью дальнейшего разгрома ограниченного контингента русских войск. Генерал И.В. Гудович эту угрозу вовремя распознал и предотвратил ее Арпачайским сражением, в котором разбил турецкий корпус. А далее, не теряя времени, он двинулся походом на Эривань (сегодня Ереван), которую наши и ранее пытались взять, но обе попытки окончились неудачей и отступлением. На Закавказском театре военных действий 1812 год был отмечен поражением русских в Карабахском ханстве при Султан-Буде и громкими победами при Асландузе и Ленкорани, одержанными под предводительством генерала Петра Котляревского.
Перемирие закончилось в 1807 году, когда появилась прямая опасность соединения турецких и персидских сил в единый кулак с целью дальнейшего разгрома ограниченного контингента русских войск. Генерал И.В. Гудович эту угрозу вовремя распознал и предотвратил ее Арпачайским сражением, в котором разбил турецкий корпус. А далее, не теряя времени, он двинулся походом на Эривань (сегодня Ереван), которую наши и ранее пытались взять, но обе попытки окончились неудачей и отступлением. На Закавказском театре военных действий 1812 год был отмечен поражением русских в Карабахском ханстве при Султан-Буде и громкими победами при Асландузе и Ленкорани, одержанными под предводительством генерала Петра Котляревского.
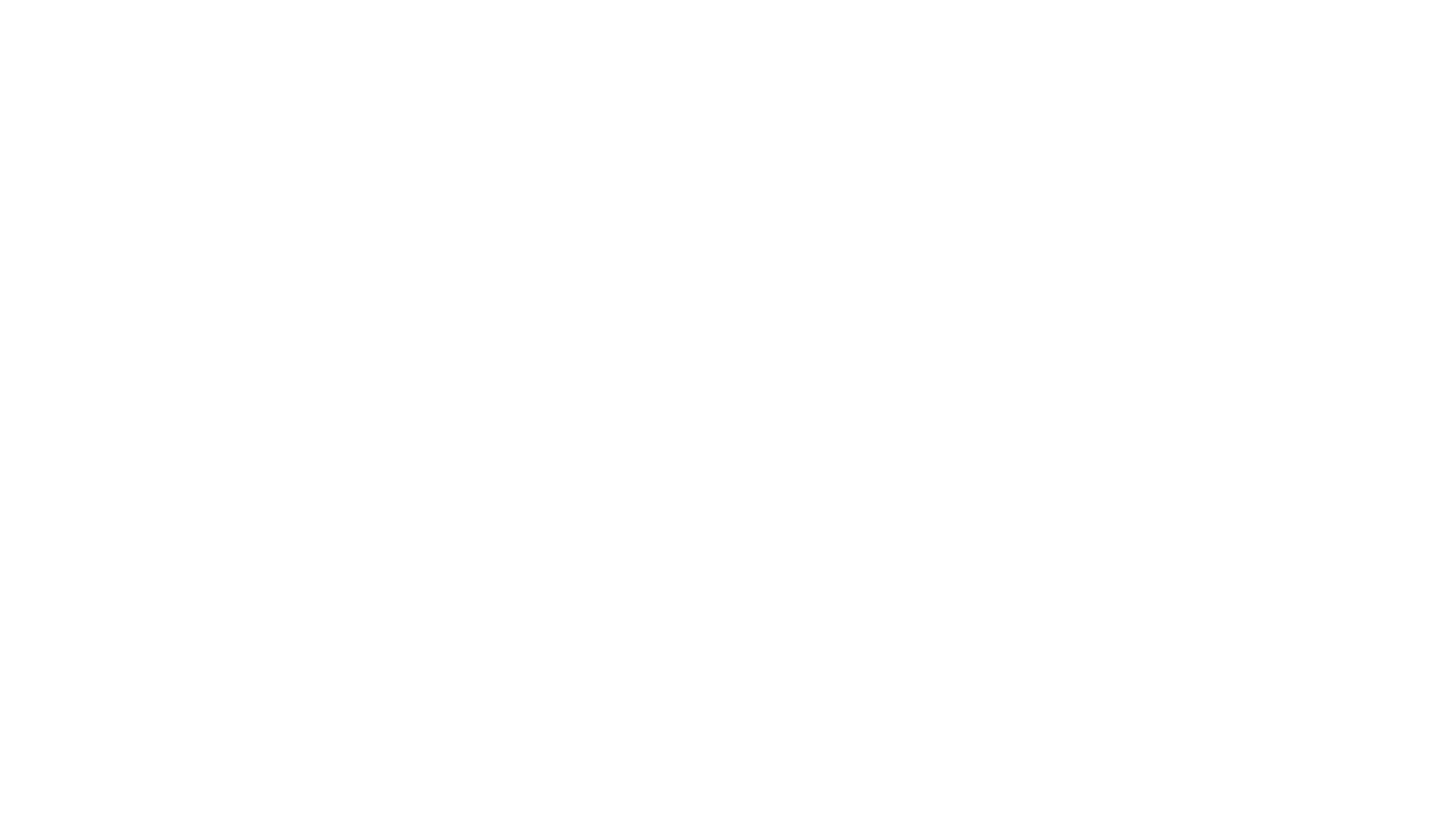
Последняя битва, унесшая много жизней по обе стороны, привела в конце концов к переговорам и подписанию в октябре 1813 года Гюлистанского мирного договора, когда уже шел Заграничный поход и даже состоялась Лейпцигская битва народов. Ценой большой крови и титанических усилий Россия получила возможность построить флот в Каспийском море и присоединила значительную часть Закавказья. По договору Персия признавала русскими владениями Дагестан, Картли-Кахетию, Мегрелию, Имеретию, Гурию, Абхазию, половину Восточной Армении, Бакинское, Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Дербентское, Кубинское, Талышское ханства, то есть большую часть сегодняшнего Азербайджана. Признав эти территории за Россией, побежденная Персия, как и следовало ожидать, не смирилась с потерей и принялась копить силы для реванша, намеренно подогреваемая английскими резидентами.
Бесконечная партия
Термин «Большая игра» традиционно относят к многолетнему глобальному и ожесточенному противостоянию Великобритании и Российской империи за влияние на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. И хотя в массовой культуре этот увлекательный сюжет ассоциируется с теневой схваткой за Афганистан и Туркестан, формально началось все, как считают историки, именно на Закавказском театре военных действий, в разгар Русско-персидской войны. В битве при Асландузе действиями персов, помимо собственных военачальников во главе с Аббас-мирзой, руководили британские офицеры. Именно в ту войну англичане впервые заявили о себе как о друзьях и покровителях персидского шаха и как о недоброжелателях России, противниках ее присутствия и влияния в этих землях.
Интересы и мотивация обеих сторон побороться за те территории заключались в удобном расположении Персии на торговом маршруте из Европы в Индию – главную на протяжении веков колонию Великобритании. И, естественно, в Лондоне не желали видеть на этой артерии никого более, особенно получающего свою прибыль. И пока императора-триумфатора Александра I в Лондоне принимали как дорогого гостя с почестями и воспевали мужество и доблесть русских победителей Корсиканского чудовища, активно готовилось тайное соглашение, согласно которому Великобритания и Персия отказывались признавать положения Гюлистанского договора, а значит, и территориальные приобретения России. Кроме того, граница между этими странами теперь должна была определяться исключительно при участии Лондона, который в случае новой войны обязывался предоставить шаху и денежную помощь, и войска с вооружением. Договор, играющий на руку только Великобритании, был подписан в том же 1814 году.
Поначалу, надо отдать должное, Персия пыталась претворить замысел в жизнь через дипломатию: посол шаха не раз высказывал Александру I в Петербурге предложение сесть и договориться заново, ссылаясь на то, что злополучный для Персии Гюлистанский договор составлен в общих чертах и надо разработать новое, более детально проработанное соглашение, особенно в отношении территориальных вопросов. Демонстрировалась и способность к компромиссу: Тегеран, как бы ни было унизительно поражение, связи с реальностью (или все теми же британскими советниками) не терял и не требовал себе вернуть все до последнего клочка земли. Петербург также не порол горячку, понимая тонкость положения, поэтому в конце концов согласился, что Гюлистанский мир «не соответствует безопасности российских границ», а окончательный ответ по территориальным вопросам даст инспекция текущей кордонной линии, провести которую назначили знаменитого А.П. Ермолова.
Интересы и мотивация обеих сторон побороться за те территории заключались в удобном расположении Персии на торговом маршруте из Европы в Индию – главную на протяжении веков колонию Великобритании. И, естественно, в Лондоне не желали видеть на этой артерии никого более, особенно получающего свою прибыль. И пока императора-триумфатора Александра I в Лондоне принимали как дорогого гостя с почестями и воспевали мужество и доблесть русских победителей Корсиканского чудовища, активно готовилось тайное соглашение, согласно которому Великобритания и Персия отказывались признавать положения Гюлистанского договора, а значит, и территориальные приобретения России. Кроме того, граница между этими странами теперь должна была определяться исключительно при участии Лондона, который в случае новой войны обязывался предоставить шаху и денежную помощь, и войска с вооружением. Договор, играющий на руку только Великобритании, был подписан в том же 1814 году.
Поначалу, надо отдать должное, Персия пыталась претворить замысел в жизнь через дипломатию: посол шаха не раз высказывал Александру I в Петербурге предложение сесть и договориться заново, ссылаясь на то, что злополучный для Персии Гюлистанский договор составлен в общих чертах и надо разработать новое, более детально проработанное соглашение, особенно в отношении территориальных вопросов. Демонстрировалась и способность к компромиссу: Тегеран, как бы ни было унизительно поражение, связи с реальностью (или все теми же британскими советниками) не терял и не требовал себе вернуть все до последнего клочка земли. Петербург также не порол горячку, понимая тонкость положения, поэтому в конце концов согласился, что Гюлистанский мир «не соответствует безопасности российских границ», а окончательный ответ по территориальным вопросам даст инспекция текущей кордонной линии, провести которую назначили знаменитого А.П. Ермолова.
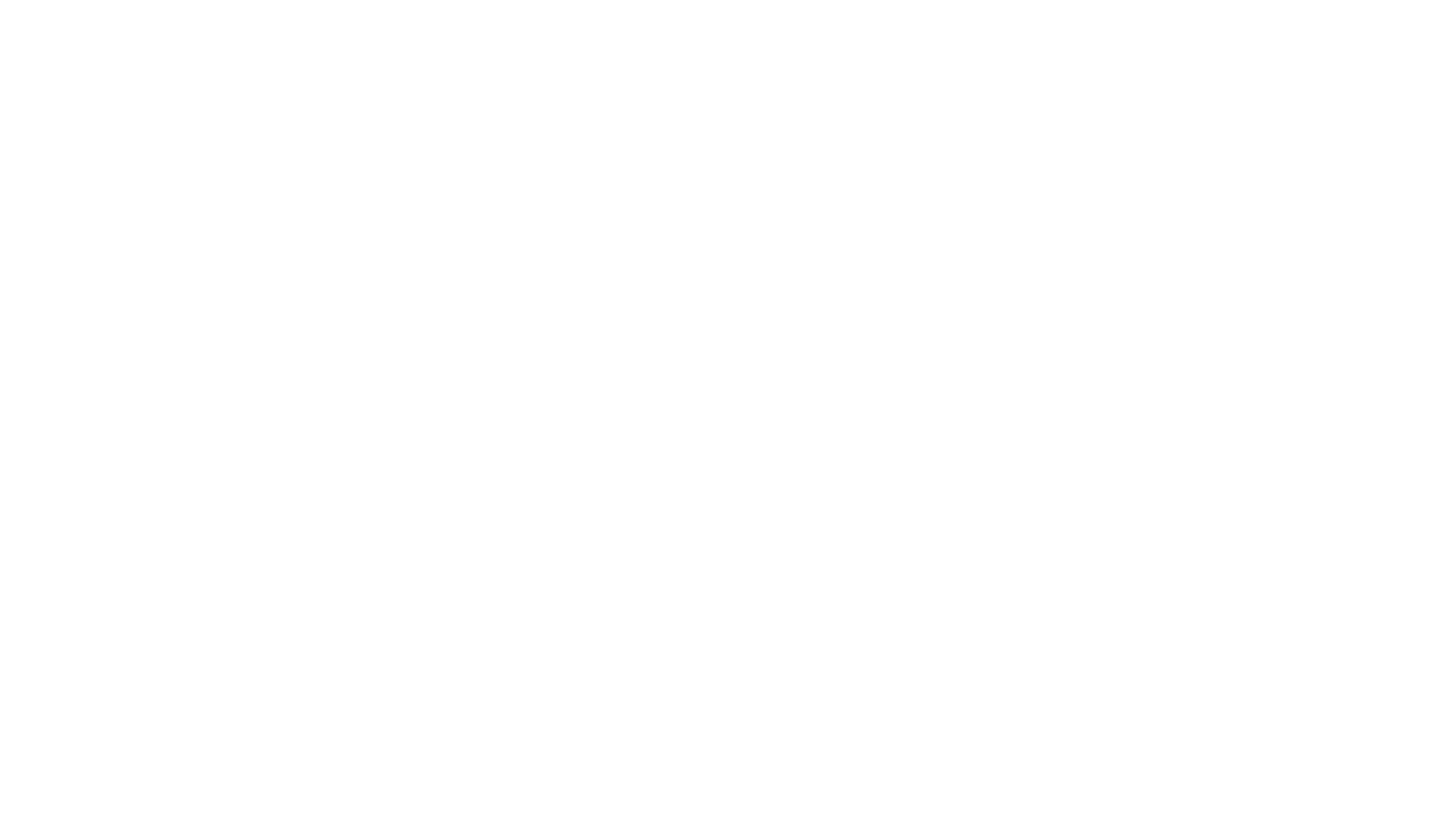
В Тегеран прославленный генерал отправлялся в высокой должности главнокомандующего войсками Отдельного Грузинского корпуса и главноуправляющего Кавказским краем с предписанием пресечь вмешательство британских советников в переговоры с шахом и в принципе покончить с нездоровым влиянием Лондона в персидской державе. Как ни старался Алексей Петрович, договориться ни о каких уступках друг другу не удалось, да и сырой британский циклон то и дело портил погоду в солнечном Тегеране. Гюлистанский договор остался в силе без изменений и был опубликован в 1818 году. Впрочем, совсем уж врагами стороны не сделались – Петербург признавал Аббаса-мирзу наследником Фетх Али-шаха, а тот, в свою очередь, дозволял открыть русское консульство в Тебризе.
Но Лондон все равно не устраивал никакой вариант, кроме новой войны, и персов продолжали натравливать на русских. Да и вопрос с границами все равно не давал покоя шаху, а потому переговоры с предложениями начинались по новому кругу, и там цеплялись за разнообразные нюансы вроде различия двух переводов договора на фарси и на русском. Однако все по-прежнему оканчивалось ничем. С каждой мелочью новый конфликт вызревал все явнее, и к моменту, когда спусковой крючок был нажат, в России скончался император Александр, прогремело трагическое восстание декабристов, а на престол взошел Николай I. Хан Эривани, которого подзуживали персы, постоянно устраивал провокации на границе и накалял обстановку. Последнюю попытку все решить дипломатическим путем предприняло посольство князя А.С. Меншикова, но не без помощи вездесущего Лондона миссия оказалась провальной, и летом 1826 года началась новая война.
Войну эту, в историю которой вошли сражения под Елисаветполем (так в русских владениях переименовали уже знакомую Гянджу), Аббас-Абадом и взятие Эривани, русские с триумфом выиграли. Тому способствовали талант полководцев И.Ф. Паскевича, получившего от Николая I титул графа Эриванского, все того же Ермолова, князя В.М. Мадатова и других, а также героизм русских войск и то обидное для Тегерана обстоятельство, что союзники, на которых шах так рассчитывал (Великобритания и Османская империя), сделали персов крайними, толкнув их сражаться с Россией в одиночестве. Результатом же войны, закрепленным Туркманчайским мирным договором 1828 года, стали окончательный переход всего Закавказья в русское подданство и монопольное право России иметь Каспийский флот, а также богатая контрибуция от Персии.
В составлении договора участие принимал и молодой дипломат, талантливый поэт А.С. Грибоедов. Его же назначили министром-резидентом, то есть послом, в Персию, возложив на него в том числе обязанность следить за исполнением персами обязательств по договору. Назначение, как все знают со школы, оказалось роковым: в Тегеране, куда из Тебриза русское посольство зимой 1829 года отправилось представляться шахскому двору, произошли бунт и резня в исполнении разъяренной толпы. От рук бунтовщиков погибли все сотрудники посольства во главе с Грибоедовым – повезло выжить только секретарю Мальцову. Позже годами продолжались споры о том, что на самом деле подпалило фитили гнева толпы: обременительные налоги для сбора контрибуции русским, легшие на плечи простых персов, конфликты с армянами, пользовавшимися покровительством и защитой русской миссии, или укрывательство бывшего евнуха гарема шаха Мирзы Якуба, армянина по происхождению, бежавшего из Тегерана. До сих пор также точно неизвестно, были ли англичане подстрекателями резни – все это осталось на уровне конспирологических теорий. Шах же послал в Петербург богатые дары в качестве искупления, в том числе легендарный алмаз «Шах», и, несмотря на это преступление, осложнений в отношениях только что помирившихся стран не произошло.
Но Лондон все равно не устраивал никакой вариант, кроме новой войны, и персов продолжали натравливать на русских. Да и вопрос с границами все равно не давал покоя шаху, а потому переговоры с предложениями начинались по новому кругу, и там цеплялись за разнообразные нюансы вроде различия двух переводов договора на фарси и на русском. Однако все по-прежнему оканчивалось ничем. С каждой мелочью новый конфликт вызревал все явнее, и к моменту, когда спусковой крючок был нажат, в России скончался император Александр, прогремело трагическое восстание декабристов, а на престол взошел Николай I. Хан Эривани, которого подзуживали персы, постоянно устраивал провокации на границе и накалял обстановку. Последнюю попытку все решить дипломатическим путем предприняло посольство князя А.С. Меншикова, но не без помощи вездесущего Лондона миссия оказалась провальной, и летом 1826 года началась новая война.
Войну эту, в историю которой вошли сражения под Елисаветполем (так в русских владениях переименовали уже знакомую Гянджу), Аббас-Абадом и взятие Эривани, русские с триумфом выиграли. Тому способствовали талант полководцев И.Ф. Паскевича, получившего от Николая I титул графа Эриванского, все того же Ермолова, князя В.М. Мадатова и других, а также героизм русских войск и то обидное для Тегерана обстоятельство, что союзники, на которых шах так рассчитывал (Великобритания и Османская империя), сделали персов крайними, толкнув их сражаться с Россией в одиночестве. Результатом же войны, закрепленным Туркманчайским мирным договором 1828 года, стали окончательный переход всего Закавказья в русское подданство и монопольное право России иметь Каспийский флот, а также богатая контрибуция от Персии.
В составлении договора участие принимал и молодой дипломат, талантливый поэт А.С. Грибоедов. Его же назначили министром-резидентом, то есть послом, в Персию, возложив на него в том числе обязанность следить за исполнением персами обязательств по договору. Назначение, как все знают со школы, оказалось роковым: в Тегеране, куда из Тебриза русское посольство зимой 1829 года отправилось представляться шахскому двору, произошли бунт и резня в исполнении разъяренной толпы. От рук бунтовщиков погибли все сотрудники посольства во главе с Грибоедовым – повезло выжить только секретарю Мальцову. Позже годами продолжались споры о том, что на самом деле подпалило фитили гнева толпы: обременительные налоги для сбора контрибуции русским, легшие на плечи простых персов, конфликты с армянами, пользовавшимися покровительством и защитой русской миссии, или укрывательство бывшего евнуха гарема шаха Мирзы Якуба, армянина по происхождению, бежавшего из Тегерана. До сих пор также точно неизвестно, были ли англичане подстрекателями резни – все это осталось на уровне конспирологических теорий. Шах же послал в Петербург богатые дары в качестве искупления, в том числе легендарный алмаз «Шах», и, несмотря на это преступление, осложнений в отношениях только что помирившихся стран не произошло.
Место встречи
«Большая игра» с годами набирала обороты, и, несмотря на палки в колеса со стороны Лондона, в Иранском регионе влияние России лишь возрастало. В 1879 году при шахском дворе появилась, внимание, Персидская казачья бригада (позже дивизия). Это казачье соединение, построенное по манере и подобию Терских казачьих подразделений, создать которое пожелал сам правящий в то время Насир ад-Дин-шах, восхищенный казаками в Закавказье, что сопровождали его в поездке в Европу. На просьбу командировать в Тегеран русских офицеров-инструкторов ответили согласием. Набранная из местных жителей бригада впоследствии стала одним из наиболее боеспособных соединений Персидской армии. Из нее же вышел и будущий шах Реза-хан, чья звезда взойдет уже после падения Каджарской династии и коренных перемен в мире. Но это будет потом.
В XX веке дела в Иране с точки зрения России протекали без потрясений вплоть до событий Конституционной революции 1905-1911 гг., когда под давлением общества в абсолютистском Иране приняли конституцию и создали местный парламент. В связи с этими событиями в 1907 году между Россией и Британией было подписано соглашение о разделе Ирана на зоны влияния (нам достался Северный, англичанам – Южный, еще в качестве нейтральной и «открытой для Германии» оставалась Центральная часть). И это стало не просто каким-то очередным формальным договором, а документом, официально закрывшим «Большую игру» как таковую и ее эпоху. Встречается даже такая формулировка – «довершивший формирование Антанты».
В XX веке дела в Иране с точки зрения России протекали без потрясений вплоть до событий Конституционной революции 1905-1911 гг., когда под давлением общества в абсолютистском Иране приняли конституцию и создали местный парламент. В связи с этими событиями в 1907 году между Россией и Британией было подписано соглашение о разделе Ирана на зоны влияния (нам достался Северный, англичанам – Южный, еще в качестве нейтральной и «открытой для Германии» оставалась Центральная часть). И это стало не просто каким-то очередным формальным договором, а документом, официально закрывшим «Большую игру» как таковую и ее эпоху. Встречается даже такая формулировка – «довершивший формирование Антанты».
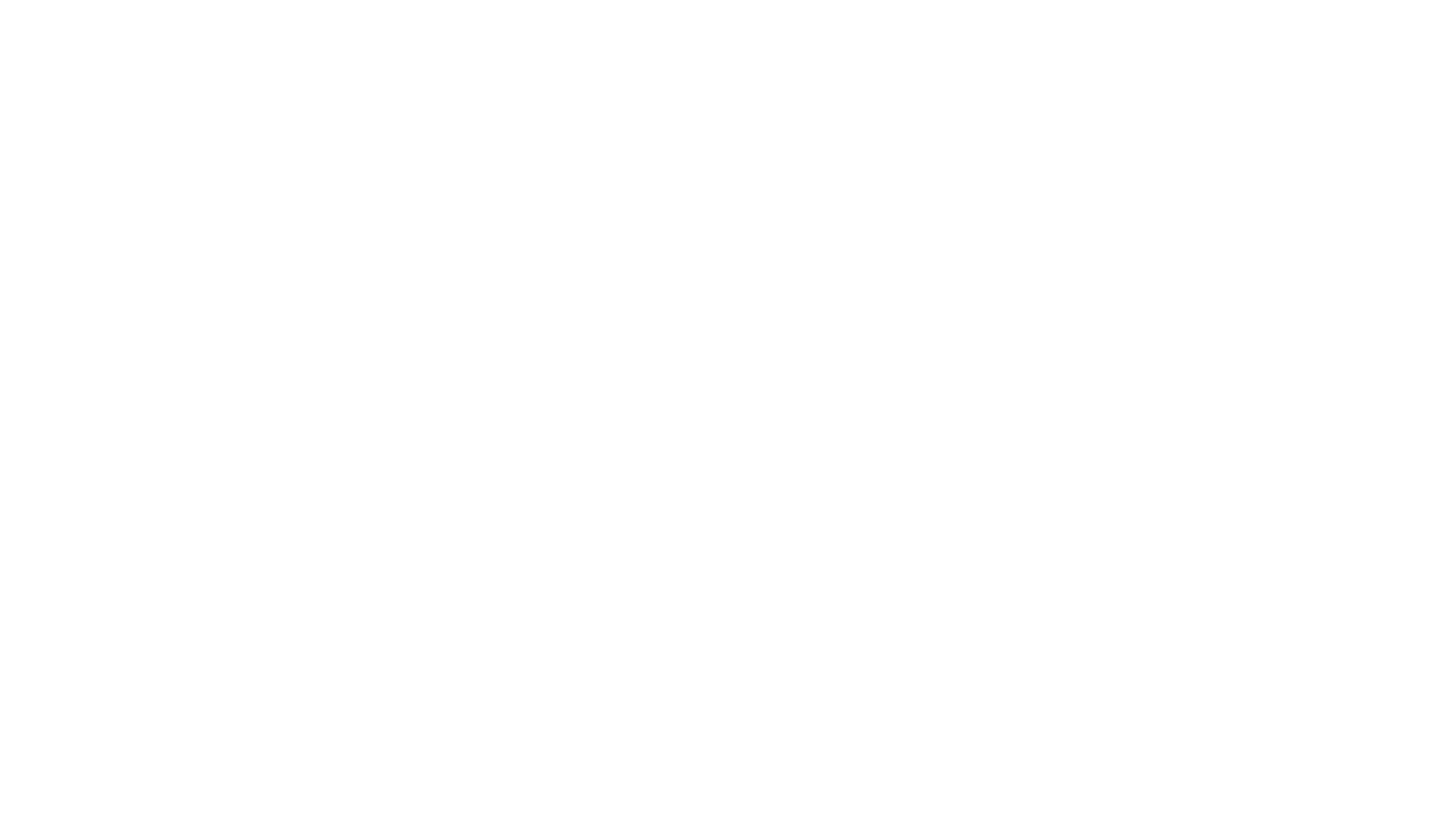
А меж тем в самом восточном государстве вспыхнуло по-настоящему – взошедший на престол Мохаммед Али-шах отказался признавать конституцию, что даровал его отец, а верных казаков-персов вообще послал разогнать меджлис, что они и сделали, тем самым совершив государственный переворот. Взрывная реакция была запущена, а последствия стали необратимыми: в Тебризе, Гиляне, Исфахане и других крупных городах вспыхнули друг за другом восстания, началась, по сути, гражданская война, и России ничего не оставалось, кроме как вмешаться и ввести войска. Контингент заходил в Персию дважды. Первый раз – в 1909 году с целью оказать помощь в подавлении революционных выступлений и начавшихся на фоне хаоса разбойных нападений и грабежей, в основном совершаемых некими бандами кочевников.
Второй ввод войск осенью 1911 года был куда более масштабным и имел более конкретные цели. В частности, в Тегеране посол России вручил правительству Персии ультиматум с требованиями восстановления порядка в стране и обеспечения защиты экономических интересов России. После истечения срока ультиматума от 11 ноября 1911 года наши войска перешли русско-персидскую границу и заняли город Казвин. Спустя несколько дней правительство Персии уже стало сговорчивее и согласилось выполнить требования.
Противниками же русского контингента здесь были не только разномастные революционно-повстанческие отряды, но и турки, воспользовавшиеся хаосом гражданской войны и занявшие некоторую часть персидских земель. Впрочем, они не оказывали ожесточенного сопротивления и к июлю 1912 года полностью ушли из северо-западного Ирана, да и остальные причины присутствия русских войск в стране постепенно отпали. Поэтому наши свернули поход, и о боевых действиях большого масштаба в этих местах забыли до Первой мировой войны – ее Персидской кампании, когда союз России и Британии выступил против все тех же турецких сил, как известно, бывших союзными кайзеровской Германии, и поддержавших их персов. В общей сложности с перерывами эта кампания охватила период с декабря 1914 до начала 1918 года. Тогда революция и выход России из войны оставили британцев здесь в одиночестве.
Далее в истории Персии наступил короткий период существования Гилянской (Персидской) социалистической республики, продлившийся чуть больше года – с лета 1920 по осень 1921. Оговоримся сразу, ни на одном из этапов этой истории ГСР к молодому Советскому Союзу не относилась. Более того, эта республика во главе с националистом Мирзой Кучек-ханом, мало похожим на социалиста, договорилась с советской делегацией о невмешательстве в свои внутренние дела. Молодое советское государство тем временем было озабочено возвращением Каспийского флота, что увели с берегов противники-белогвардейцы. Сделав, что хотели, Советы вышли на переговоры с гилянскими товарищами о постепенном выводе своих сил из Персии, и к сентябрю 1921 года никого из Союза там уже не было, а Гилянская республика, так и не выйдя за пределы Гиляна, развалилась, хотя предпринимались попытки военных походов и на другие провинции, и на Тегеран.
В 1923 же году премьер-министром Персии становится выходец из Персидской казачьей бригады Реза Пехлеви. Он же в 1925 году устраивает переворот, закатывая солнце династии Каджаров вручную, и прибавляет к своему имени «-шах», то есть становится уже правителем. Этот политик внешне был рад дружбе со всеми, в том числе с СССР, с которым еще до его прихода к власти успели подписать договор, где по одному из условий Москва оставляет за собой право на ввод войск в Персию (так Иран назывался вплоть до 1935 года), если там начинают действовать какие-то силы, направленные против интересов советского народа и правительства. Пункт этот Реза-шаху не нравился, он его пытался отменить, но советская сторона была непреклонна.
В 1941 году на территории Ирана уже вовсю действовали именно такие силы, которые упоминались в злополучном неудобном договоре. Разведка Третьего рейха, имеющая целью пресечь влияние СССР и Британии в регионе, распустила свои щупальца широко и вольготно. И в торговых, и в политических делах Тегеран постепенно отворачивали от Москвы в сторону Берлина, и это, что характерно, тревожило не только Советы, но и другого старинного игрока – Британскую корону. Иран стал местом встречи давних знакомых и совместного предприятия. На требования что-то сделать с гитлеровской агентурой Реза-шах отвечал невнятными отговорками и отказами, отвергал он и возможный ввод войск извне. Тогда союзники по предложению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля сами все устроили.
Случилось это уже после начала Великой Отечественной войны, в августе – сентябре 1941 года. Меньше месяца ушло у союзников на то, чтобы перевернуть здесь доску, свергнув Реза-шаха, но предложив ему почетные условия ссылки. На престол же поставили его сына Мохаммеда, лояльного антигитлеровской коалиции. Тем самым был окончательно проложен и установлен контроль над так называемым Персидским коридором: то, что Иран мог предоставить соратникам помимо нефти, это дорожная артерия для сообщения между СССР и союзниками не через подконтрольную Гитлеру Европу. Через коридор будут проходить поставки техники и прочего по ленд-лизу, а позже произойдет событие, известное как Тегеран-43. В Тегеране соберется первая общая конференция, где встретятся Сталин, Черчилль и Рузвельт. Дальнейшие события хорошо известны по общему курсу истории, остается лишь констатировать, что роль Ирана во Второй мировой войне и победе над нацистской Германией все же скорее была второстепенной, но более широкой, чем просто место первой деловой встречи союзников в полном составе.
Второй ввод войск осенью 1911 года был куда более масштабным и имел более конкретные цели. В частности, в Тегеране посол России вручил правительству Персии ультиматум с требованиями восстановления порядка в стране и обеспечения защиты экономических интересов России. После истечения срока ультиматума от 11 ноября 1911 года наши войска перешли русско-персидскую границу и заняли город Казвин. Спустя несколько дней правительство Персии уже стало сговорчивее и согласилось выполнить требования.
Противниками же русского контингента здесь были не только разномастные революционно-повстанческие отряды, но и турки, воспользовавшиеся хаосом гражданской войны и занявшие некоторую часть персидских земель. Впрочем, они не оказывали ожесточенного сопротивления и к июлю 1912 года полностью ушли из северо-западного Ирана, да и остальные причины присутствия русских войск в стране постепенно отпали. Поэтому наши свернули поход, и о боевых действиях большого масштаба в этих местах забыли до Первой мировой войны – ее Персидской кампании, когда союз России и Британии выступил против все тех же турецких сил, как известно, бывших союзными кайзеровской Германии, и поддержавших их персов. В общей сложности с перерывами эта кампания охватила период с декабря 1914 до начала 1918 года. Тогда революция и выход России из войны оставили британцев здесь в одиночестве.
Далее в истории Персии наступил короткий период существования Гилянской (Персидской) социалистической республики, продлившийся чуть больше года – с лета 1920 по осень 1921. Оговоримся сразу, ни на одном из этапов этой истории ГСР к молодому Советскому Союзу не относилась. Более того, эта республика во главе с националистом Мирзой Кучек-ханом, мало похожим на социалиста, договорилась с советской делегацией о невмешательстве в свои внутренние дела. Молодое советское государство тем временем было озабочено возвращением Каспийского флота, что увели с берегов противники-белогвардейцы. Сделав, что хотели, Советы вышли на переговоры с гилянскими товарищами о постепенном выводе своих сил из Персии, и к сентябрю 1921 года никого из Союза там уже не было, а Гилянская республика, так и не выйдя за пределы Гиляна, развалилась, хотя предпринимались попытки военных походов и на другие провинции, и на Тегеран.
В 1923 же году премьер-министром Персии становится выходец из Персидской казачьей бригады Реза Пехлеви. Он же в 1925 году устраивает переворот, закатывая солнце династии Каджаров вручную, и прибавляет к своему имени «-шах», то есть становится уже правителем. Этот политик внешне был рад дружбе со всеми, в том числе с СССР, с которым еще до его прихода к власти успели подписать договор, где по одному из условий Москва оставляет за собой право на ввод войск в Персию (так Иран назывался вплоть до 1935 года), если там начинают действовать какие-то силы, направленные против интересов советского народа и правительства. Пункт этот Реза-шаху не нравился, он его пытался отменить, но советская сторона была непреклонна.
В 1941 году на территории Ирана уже вовсю действовали именно такие силы, которые упоминались в злополучном неудобном договоре. Разведка Третьего рейха, имеющая целью пресечь влияние СССР и Британии в регионе, распустила свои щупальца широко и вольготно. И в торговых, и в политических делах Тегеран постепенно отворачивали от Москвы в сторону Берлина, и это, что характерно, тревожило не только Советы, но и другого старинного игрока – Британскую корону. Иран стал местом встречи давних знакомых и совместного предприятия. На требования что-то сделать с гитлеровской агентурой Реза-шах отвечал невнятными отговорками и отказами, отвергал он и возможный ввод войск извне. Тогда союзники по предложению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля сами все устроили.
Случилось это уже после начала Великой Отечественной войны, в августе – сентябре 1941 года. Меньше месяца ушло у союзников на то, чтобы перевернуть здесь доску, свергнув Реза-шаха, но предложив ему почетные условия ссылки. На престол же поставили его сына Мохаммеда, лояльного антигитлеровской коалиции. Тем самым был окончательно проложен и установлен контроль над так называемым Персидским коридором: то, что Иран мог предоставить соратникам помимо нефти, это дорожная артерия для сообщения между СССР и союзниками не через подконтрольную Гитлеру Европу. Через коридор будут проходить поставки техники и прочего по ленд-лизу, а позже произойдет событие, известное как Тегеран-43. В Тегеране соберется первая общая конференция, где встретятся Сталин, Черчилль и Рузвельт. Дальнейшие события хорошо известны по общему курсу истории, остается лишь констатировать, что роль Ирана во Второй мировой войне и победе над нацистской Германией все же скорее была второстепенной, но более широкой, чем просто место первой деловой встречи союзников в полном составе.
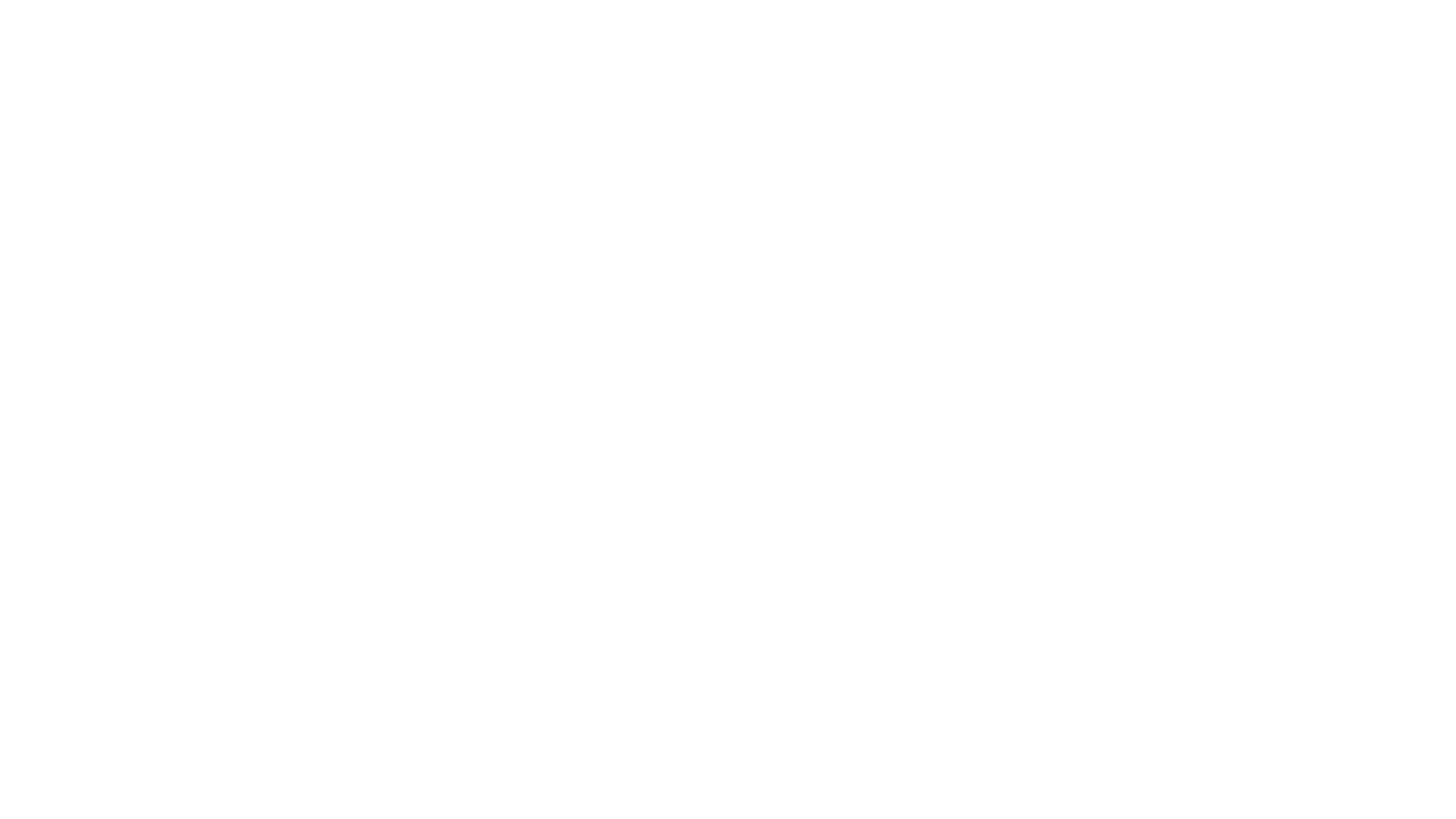
Волею Пророка
После Второй мировой войны правление шаха Мохаммеда, сына свергнутого Реза-шаха, который умер в ссылке в Йоханнесбурге, отмечено собственной доктриной, направленной на якобы возрождение величия Ирана, которое должно было строиться на трех ключевых принципах – «Бог, Шах и Родина». Себя он видел проводником воли Бога для своего народа, хотя одновременно лоббировал и частичную модернизацию обычаев в пользу светскости. Свои эксперименты Мохаммед закончил только в 1979 году, когда прогремела Исламская революция, а сам он оказался последним шахом в истории своей страны.
События современные же сблизили Россию, правопреемницу СССР, и Иран самым тесным и судьбоносным образом, за которым в самом деле заподозришь волю небес. Оказавшись пред лицом ополчившегося западного политикума, наши страны стали друг для друга ключевыми партнерами, что закреплено подписанным 17 января 2025 года договором. Помощь, которую Тегеран оказал нам на первых порах СВО и далее, трудно переоценить: саженцы «Гераней», прижившиеся в нашей военной почве и щедро пустившие побеги, работающий параллельный импорт, наконец, союзничество в Закавказских вопросах. Если века назад нашим странам приходилось воевать друг с другом из-за Закавказья – Армении, Азербайджана, Грузии – то сегодня эти неспокойные регионы сообща курируются, пока через них свои политические замыслы пытаются претворить в жизнь другие европейские игроки. Надо ли говорить, что, несмотря на сложную, пеструю и богатую историю двух государств, где были и кровопролитные войны, и внешние интриги, и трагедии, добрососедские отношения тоже остались важными вехами, не мешающими отвечать на новые исторические вызовы. Этому и способствуют как никогда крепкие узы политической дружбы.
События современные же сблизили Россию, правопреемницу СССР, и Иран самым тесным и судьбоносным образом, за которым в самом деле заподозришь волю небес. Оказавшись пред лицом ополчившегося западного политикума, наши страны стали друг для друга ключевыми партнерами, что закреплено подписанным 17 января 2025 года договором. Помощь, которую Тегеран оказал нам на первых порах СВО и далее, трудно переоценить: саженцы «Гераней», прижившиеся в нашей военной почве и щедро пустившие побеги, работающий параллельный импорт, наконец, союзничество в Закавказских вопросах. Если века назад нашим странам приходилось воевать друг с другом из-за Закавказья – Армении, Азербайджана, Грузии – то сегодня эти неспокойные регионы сообща курируются, пока через них свои политические замыслы пытаются претворить в жизнь другие европейские игроки. Надо ли говорить, что, несмотря на сложную, пеструю и богатую историю двух государств, где были и кровопролитные войны, и внешние интриги, и трагедии, добрососедские отношения тоже остались важными вехами, не мешающими отвечать на новые исторические вызовы. Этому и способствуют как никогда крепкие узы политической дружбы.
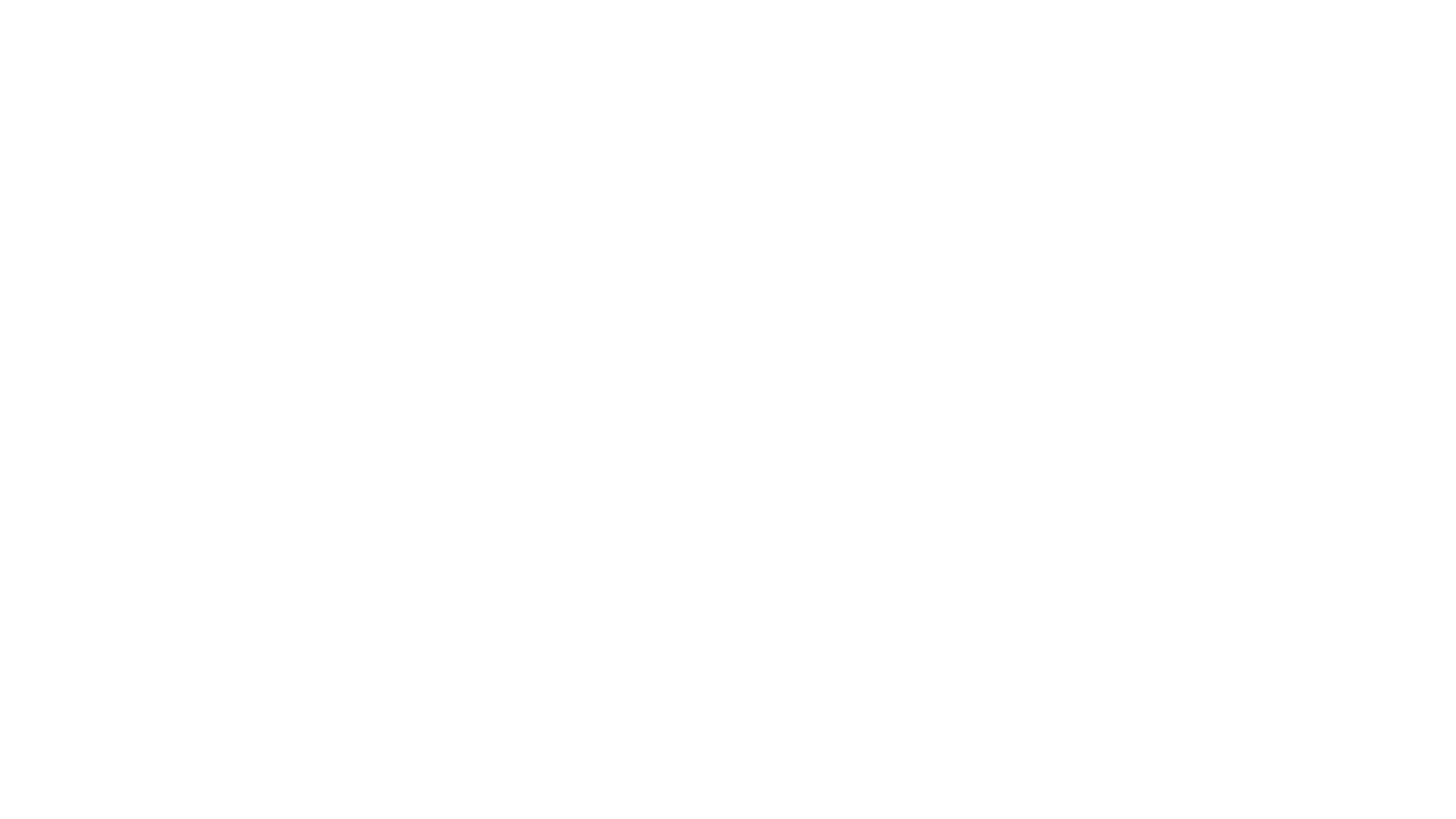
Автор: Дарья Продина