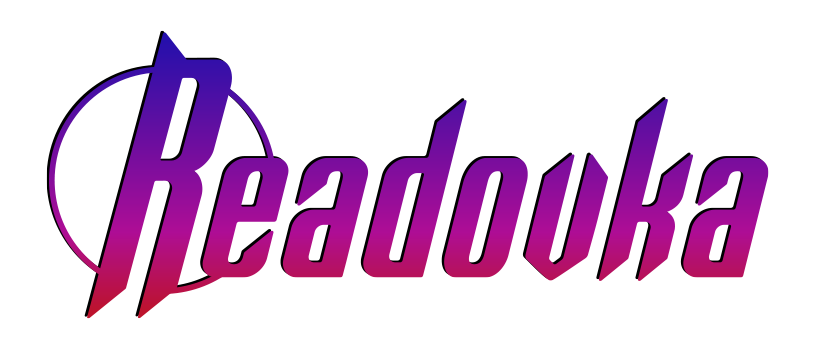Национальные мессенджеры
как государства разделяют мир по линиям связи
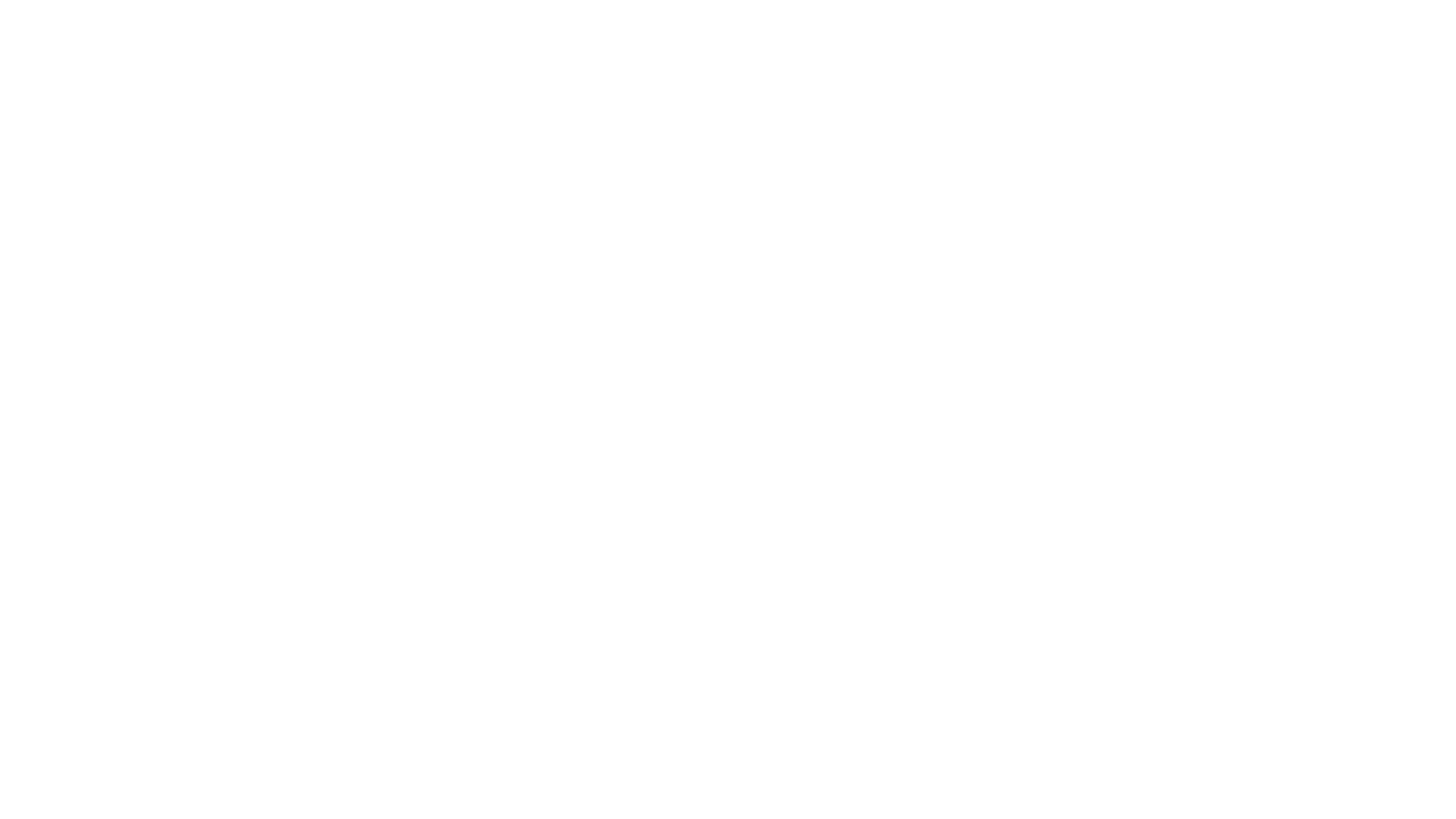
Национальные мессенджеры
как государства разделяют мир по линиям связи
До недавнего времени мессенджеры казались чем-то вроде нейтральной и универсальной среды — простым инструментом для общения, которому не было дела до границ, юрисдикций или политики. WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ), Telegram, Facebook Messenger (принадлежит компании Meta), Signal — они проникли почти во все страны, выстраивая цифровое пространство без флагов и виз. Но со временем стало ясно: в мире, где информация — оружие, такие инструменты не могут быть вне власти. Скандалы, утечки, слежка, санкции и геополитика сделали мессенджеры полем битвы между государствами, корпорациями и пользователями. «Суверенная экономика» рассказывает, почему и как формирование коммуникационных инструментов связано с новым контуром валютных зон и как это повлияет на будущее.
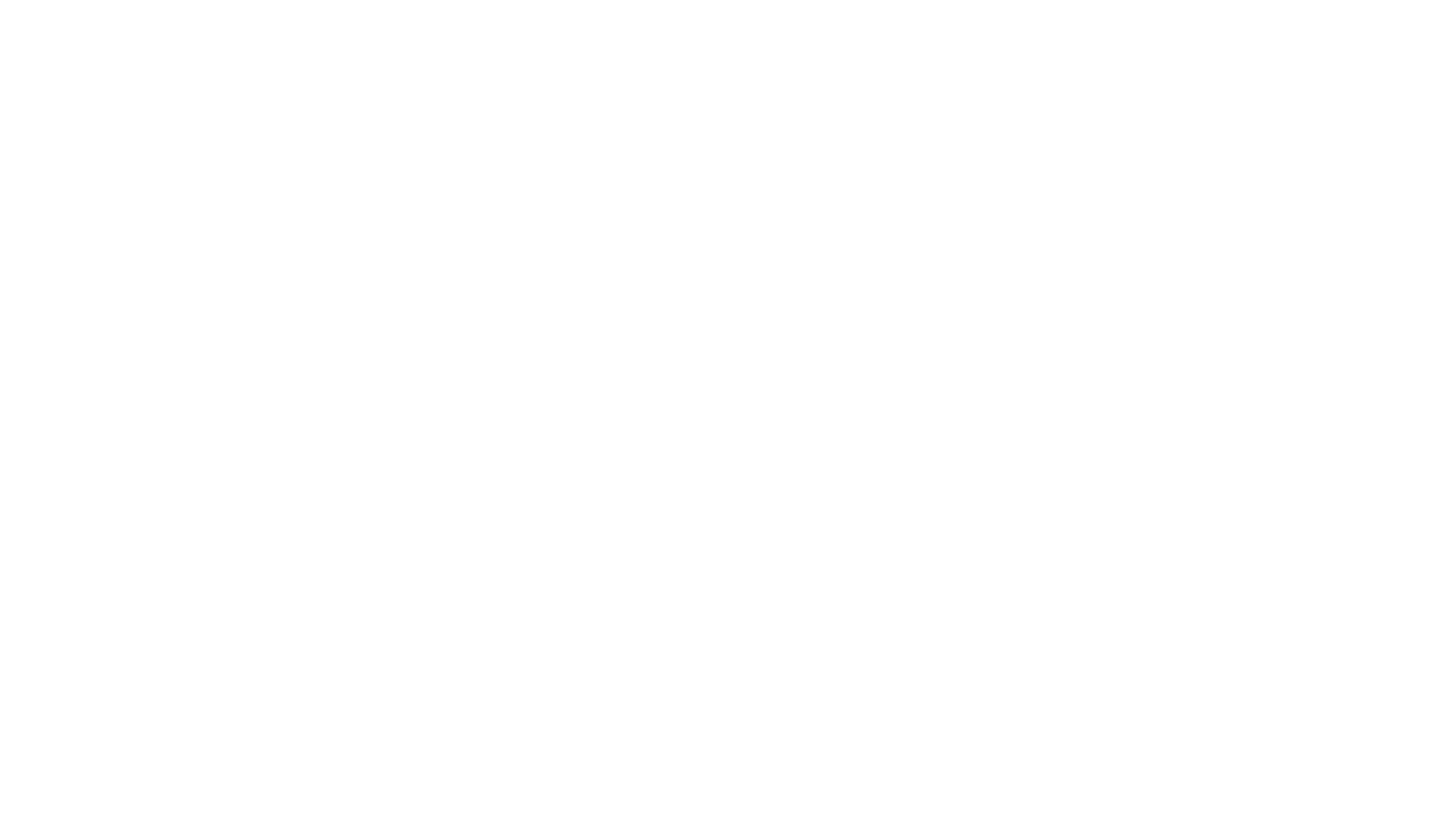
Первые тревожные сигналы о том, что независимых мессенджеров нет, раздались ещё в 2013 году, после разоблачений Эдварда Сноудена. Тогда стало очевидно, что крупнейшие цифровые платформы сотрудничают со спецслужбами США, а персональные данные миллионов людей доступны в рамках программ глобального наблюдения. Следующий удар пришёл в 2021 году, когда WhatsApp анонсировал обновление политики конфиденциальности, разрешающее передавать пользовательские данные в Meta. Это вызвало массовый отток аудитории в Telegram и Signal. Так, только за первую неделю после анонса WhatsApp Telegram получил 25 млн новых пользователей. В те же дни Signal оказался в топе загрузок в App Store и Google Play в десятках стран. За неделю он получил более 40 млн новых загрузок. Но главное — это запустило цепную реакцию: государства начали активно разрабатывать и продвигать национальные мессенджеры под полным контролем и с хранением данных в пределах своих границ.
Самым последовательным в этом процессе стал Китай. В течение 2010-х годов власти КНР заблокировали доступ к WhatsApp, Google, Facebook и другим западным сервисам, выстроив собственную суверенную цифровую архитектуру. Её краеугольный камень — WeChat, универсальное суперприложение, сочетающее функции мессенджера, соцсети, платёжной платформы, «Госуслуг», новостной ленты и даже судопроизводства. По состоянию на 2025 год аудитория WeChat превысила 1,3 млрд активных пользователей в месяц. Он стал не просто аналогом WhatsApp, а витриной управляемого цифрового мира, где государство не только контролирует инфраструктуру — оно формирует саму среду общения.
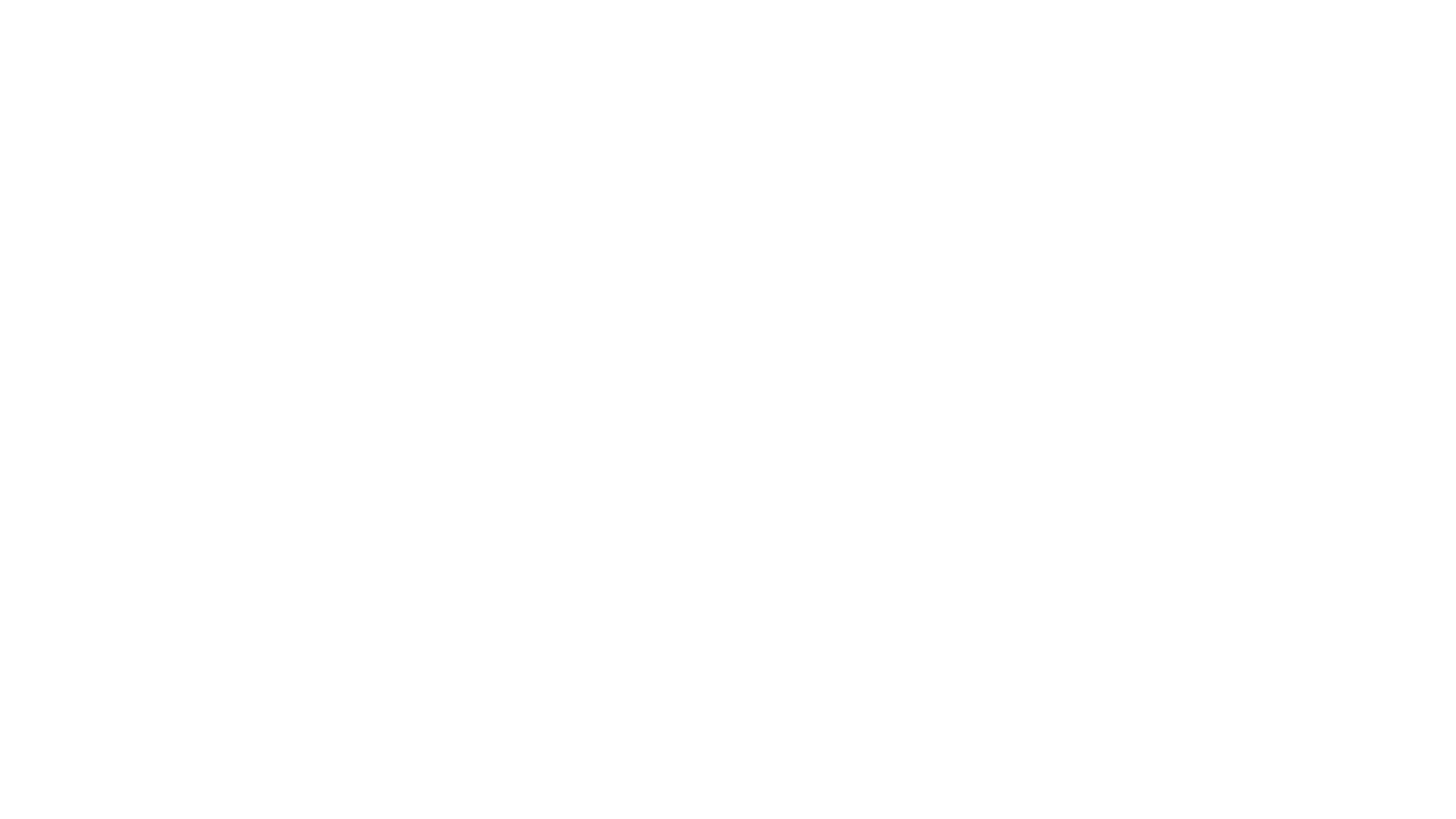
Похожим путём пошла Индия. После обострения отношений с Китаем в 2020 году и блокировки TikTok и других китайских приложений правительство Индии взяло курс на цифровой суверенитет. В стране были разработаны собственные мессенджеры — Sandes (госинициатива), Troop Messenger (для корпоративного сектора), а также гражданские альтернативы вроде Bharat Chat и Namaste Bharat. Все они позиционируются как более безопасные, локализованные и патриотичные замены WhatsApp. Однако на практике доля WhatsApp в Индии пока остаётся подавляющей: по данным World Population Review на 2025 год, этим мессенджером пользуются более 858 миллионов человек, и ни один из национальных проектов пока не смог создать сопоставимый по масштабу эффект. Тем не менее идея цифровой независимости стала частью политического дискурса.
А после недавнего введения пошлин США в отношении индийских товаров риторика возобновилась. Так, генеральный директор индийской компании DriveU, специализирующейся на цифровых продуктах, Рам Шастри прямо заявил: «Индии нужны собственные Twitter, Google, YouTube, WhatsApp — как в Китае». Это стало публичным требованием формирования собственной технологической зоны, независимой от американских корпораций.
Свои мессенджеры также разработали Япония и Южная Корея — LINE и KakaoTalk соответственно. Притом охват аудитории этих продуктов составляет порядка 90% населения. Аналоги есть и на Ближнем Востоке — например, в ОАЭ работает Botim, мессенджер со звонками, чатами до 500 человек и своей платежной системой.
А после недавнего введения пошлин США в отношении индийских товаров риторика возобновилась. Так, генеральный директор индийской компании DriveU, специализирующейся на цифровых продуктах, Рам Шастри прямо заявил: «Индии нужны собственные Twitter, Google, YouTube, WhatsApp — как в Китае». Это стало публичным требованием формирования собственной технологической зоны, независимой от американских корпораций.
Свои мессенджеры также разработали Япония и Южная Корея — LINE и KakaoTalk соответственно. Притом охват аудитории этих продуктов составляет порядка 90% населения. Аналоги есть и на Ближнем Востоке — например, в ОАЭ работает Botim, мессенджер со звонками, чатами до 500 человек и своей платежной системой.
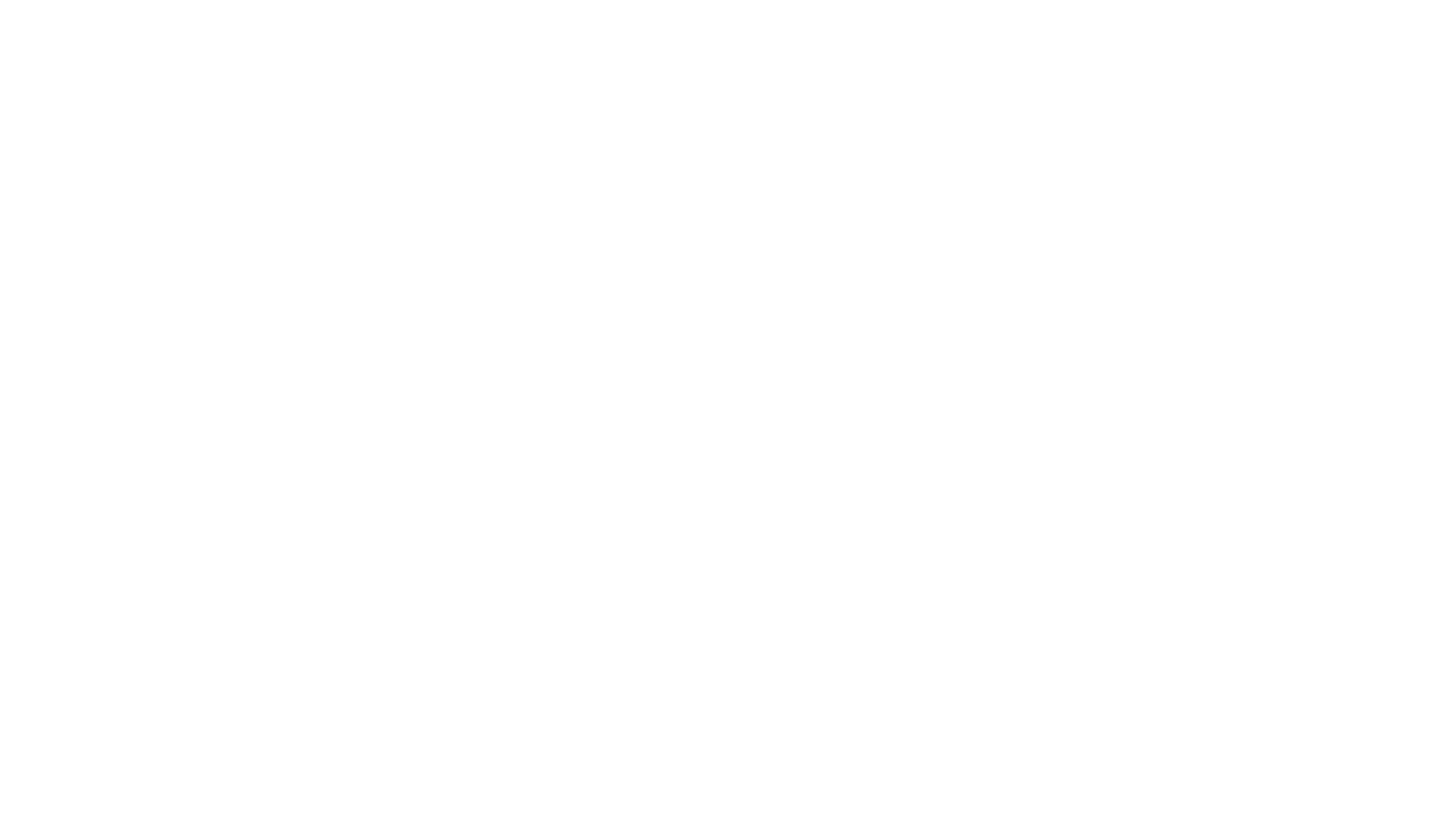
В России интерес к национальным мессенджерам рос неравномерно. Попытки создания альтернатив существовали ещё до 2020-х годов — от Mail.ru Agent до ICQ New и ТамТам, но ни один из проектов не получил по-настоящему массового признания. Лишь Telegram, разработанный Павлом Дуровым, стал широко используемым каналом коммуникации, однако он зарегистрирован за пределами России и формально не подпадает под местную юрисдикцию. На этом фоне стал очевиден запрос на мессенджер, который был бы не просто удобным, а безопасным и предсказуемым с точки зрения государства. Такой шаг вполне логичен — российские спецслужбы неоднократно говорили о том, что крупные теракты последних лет планировались именно в иностранных приложениях.
Так появился MAX — российский мессенджер, разработанный в рамках программ цифрового импортозамещения и технологического суверенитета. MAX, в отличие от Telegram и WhatsApp, вероятно, ориентирован на интеграцию с внутренними цифровыми системами России, включая «Госуслуги», электронный документооборот, корпоративные сервисы. Он поддерживает базовые функции: чаты, аудио- и видеозвонки, каналы, пересылку файлов, шифрование и двухфакторную авторизацию.
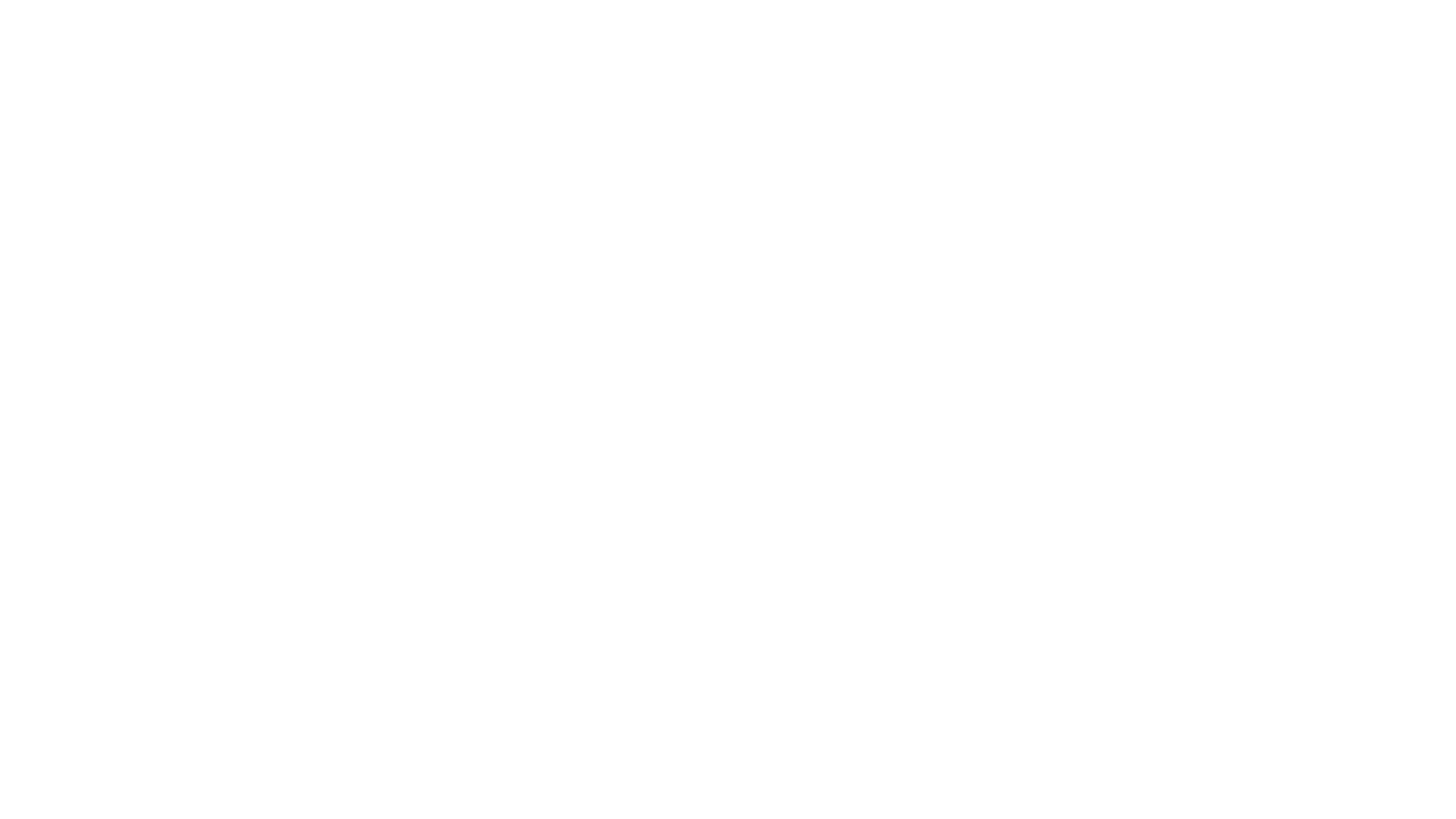
Дополнительным фактором, говорящим о необходимости собственного мессенджера, стали неоднократные заявления российских военных корреспондентов, работающих в зоне СВО. Они не раз указывали, что сообщения, переданные через WhatsApp, становились доступными украинской стороне через перехват американской разведкой. Речь шла о геолокации, голосовых сообщениях, фото и других данных. Фраза «WhatsApp = утечка» стала бытовым тезисом в части аудитории и профессиональных сообществ, что дополнительно обосновывало курс на национальный мессенджер.
Тем не менее, как и во многих других странах, у отечественного решения есть ограничения. Интерфейс MAX пока уступает конкурентам, экосистема ещё не развита, а широкая аудитория пользуется привычными платформами. Но и судить продукт, который только находится на стадии запуска, рано. Тренд очевиден: мессенджеры становятся не просто средством общения, а элементом инфраструктурного суверенитета наряду с платёжными системами, облачными сервисами и операционными системами.
Фактически, мы наблюдаем формирование коммуникационных зон — цифровых анклавов, границы которых определяются не только национальными законами, но и техническими протоколами, инфраструктурой, языком и политикой. Это не изолированное явление, а логическое продолжение куда более широкого процесса, который сегодня принято называть деглобализацией.
Тем не менее, как и во многих других странах, у отечественного решения есть ограничения. Интерфейс MAX пока уступает конкурентам, экосистема ещё не развита, а широкая аудитория пользуется привычными платформами. Но и судить продукт, который только находится на стадии запуска, рано. Тренд очевиден: мессенджеры становятся не просто средством общения, а элементом инфраструктурного суверенитета наряду с платёжными системами, облачными сервисами и операционными системами.
Фактически, мы наблюдаем формирование коммуникационных зон — цифровых анклавов, границы которых определяются не только национальными законами, но и техническими протоколами, инфраструктурой, языком и политикой. Это не изолированное явление, а логическое продолжение куда более широкого процесса, который сегодня принято называть деглобализацией.
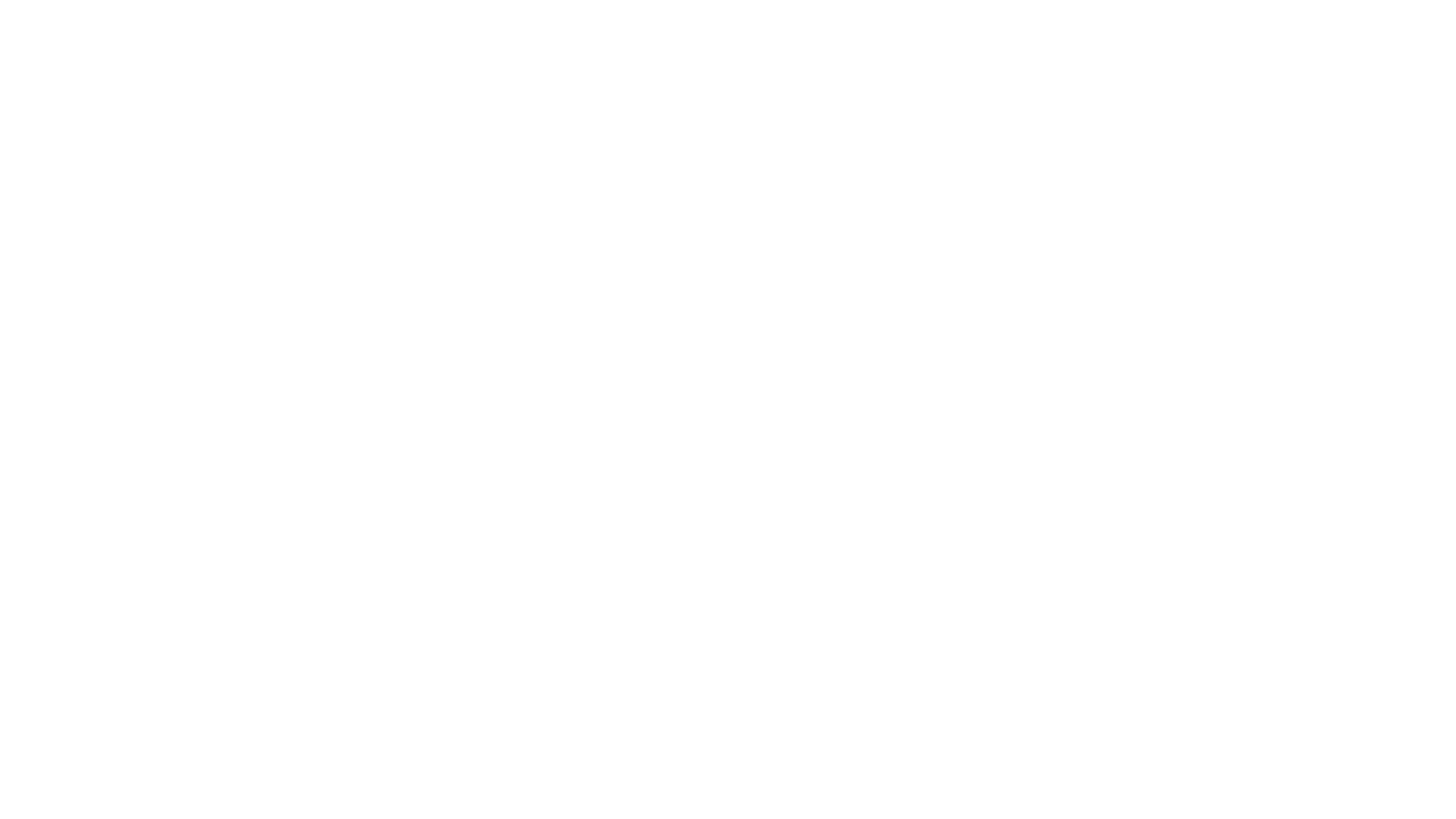
За последние 10 лет мир всё дальше отходит от идеи единого цифрового и финансового пространства. Возврат производств из Китая, политика «America First» времён Дональда Трампа, санкционная война Запада против России, создание параллельных платёжных систем вроде СПФС (Россия), CIPS (Китай), продвижение цифрового юаня и рубля, а теперь и обсуждение единой валюты БРИКС — всё это элементы образования валютных блоков.
И вот здесь проявляется важная закономерность: там, где формируется собственная платёжная система, почти всегда начинается создание собственной коммуникационной инфраструктуры. Это не случайно. Любая попытка избавиться от доллара и SWIFT технически невозможна без одновременного регулирования цифровой среды, в которой данные транзакции происходят. Какой смысл выводить доллар из контрактов, если переговоры по ним всё равно ведутся через WhatsApp и хранятся на серверах Meta?
И вот здесь проявляется важная закономерность: там, где формируется собственная платёжная система, почти всегда начинается создание собственной коммуникационной инфраструктуры. Это не случайно. Любая попытка избавиться от доллара и SWIFT технически невозможна без одновременного регулирования цифровой среды, в которой данные транзакции происходят. Какой смысл выводить доллар из контрактов, если переговоры по ним всё равно ведутся через WhatsApp и хранятся на серверах Meta?
Валютный суверенитет требует коммуникационного суверенитета, иначе система уязвима. Протоколы, переговоры, согласования — всё это информация, и если она уходит в юрисдикцию потенциального противника, никакая своя валюта или расчётная система не будут являться суверенными. Поэтому Китай параллельно продвигает и цифровой юань, и WeChat. Россия — и СПФС, и мессенджер MAX. Индия — и UPI (глобальную альтернативу SWIFT), и Sandes. В странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии аналогичные процессы идут, пусть и менее открыто.
Мы видим, как валютные и коммуникационные зоны формируются параллельно, накладываясь друг на друга. Это архитектура нового мира: блоки государств объединяются не по принципу идеологии, а по принципу общей инфраструктуры, включающей всё от расчётов до мессенджеров. Коммуникация становится новой валютой — и её доверенность, защищённость и локализация приобретают стратегическое значение.
Мы видим, как валютные и коммуникационные зоны формируются параллельно, накладываясь друг на друга. Это архитектура нового мира: блоки государств объединяются не по принципу идеологии, а по принципу общей инфраструктуры, включающей всё от расчётов до мессенджеров. Коммуникация становится новой валютой — и её доверенность, защищённость и локализация приобретают стратегическое значение.
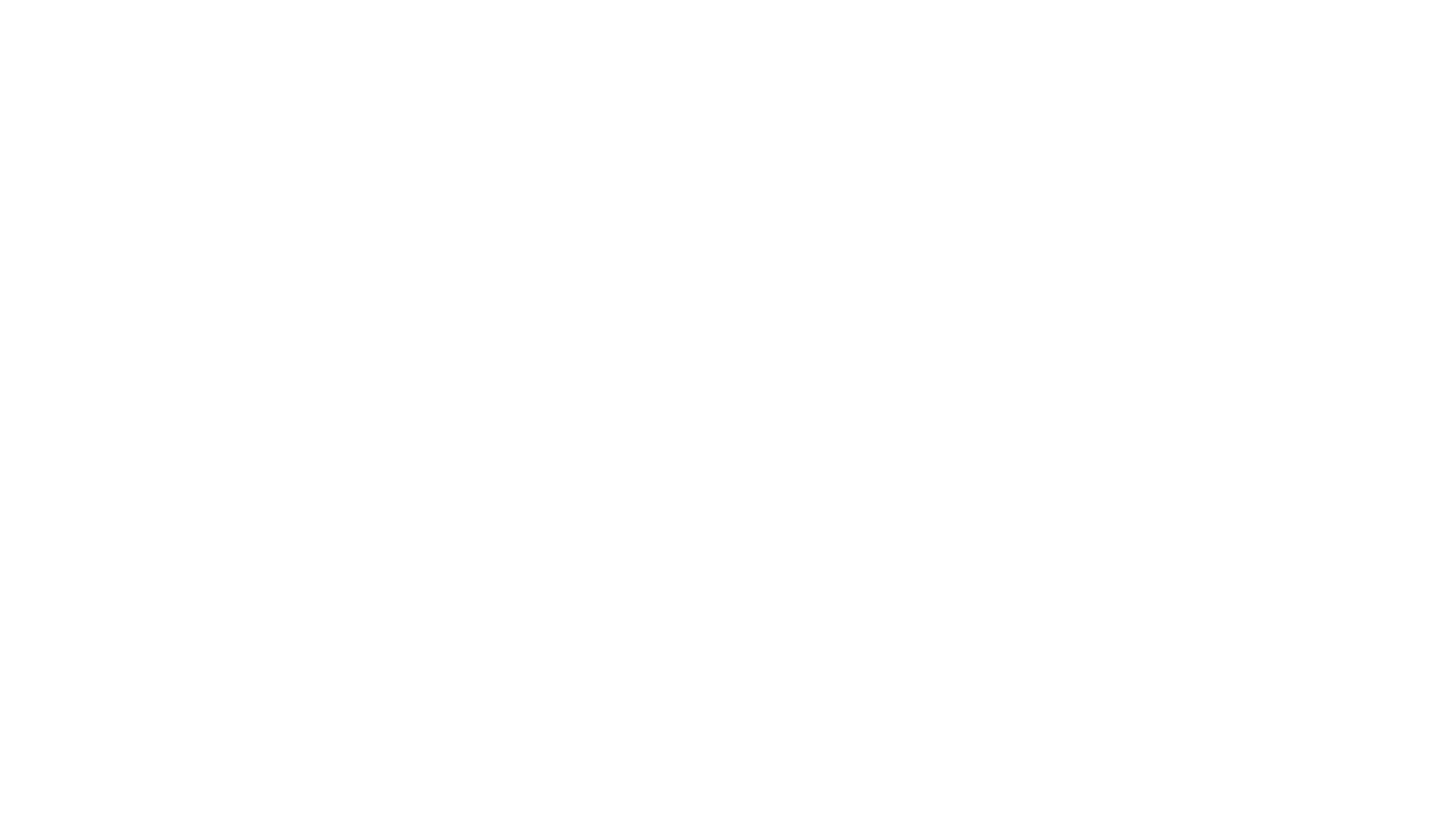
Мессенджеры в этой системе — уже не потребительский продукт, а фундаментальная прослойка суверенного управления. И их архитектура всё больше напоминает банковскую: с регламентами, шлюзами, протоколами доступа и чёткой юрисдикцией. В этом и заключается суть цифровой деглобализации — не просто в отказе от чужого, а в построении своего, управляемого, но притом совместимого с другими по желанию.
Мир, где все пользовались продукцией транснациональных корпораций, стремительно уходит. На его месте вырастает лоскутная сеть из локальных платформ. И чем глубже будут противоречия между странами, тем твёрже станут границы этих цифровых анклавов.
Мир, где все пользовались продукцией транснациональных корпораций, стремительно уходит. На его месте вырастает лоскутная сеть из локальных платформ. И чем глубже будут противоречия между странами, тем твёрже станут границы этих цифровых анклавов.